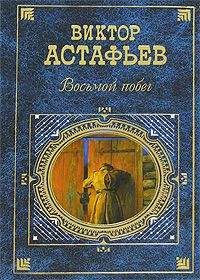— Почто к огню не идешь? — повернулся к Хычу Егор Романович. Хыч ничего не ответил, отодвинулся дальше. — Наизготовке держишься? Ищут? Все одно найдут. Сушись.
Хыч подавленно молчал. У него было такое ощущение, будто он голый стоял перед Егором Романовичем и тот видел его таким, какой он есть, — с кривыми костистыми ногами, с распоротым пузом. Было дело, полоснул он легонько себя по брюху лезвием, зная, впрочем, заранее, что умереть ему не дадут, а авторитет его среди лагерной братвы укрепится еще больше. Кроме того, можно будет поваляться в больнице и не ходить на работу.
Хыч был и остался докучливым клиентом тюремных властей и грозой заключенных. Он гордился тем, что еще с этапов о нем докатывались вести до тех колоний, куда он следовал. Его старались сплавить подальше, с рук долой, в другие колонии, только чтобы не иметь с ним никаких дел, не сторожить этого бандюгу, мечтающего только об одном — о побеге.
Со временем он и сам почти уверовал в свое бесстрашие и этой уверенностью подавлял корешков своих, а жестокостью, самодурством глушил в себе остатки совести и трусости, о которой один он только и знал. Кем-то брошенные слова о том, что храбрость — это не что иное, как умение прятать трусость, — вполне к нему подходили. Он был паясник, ловко маскировался языком и кривлянием и ходил в лагере с двумя кличками: Артист и Хыч.
Он привык жить по нехитрому правилу: подминать того, кто слабей, и покоряться скрепя сердце до поры до времени тем, кто сильней, кто имеет власть. Но то ж люди с ружьями, с собаками, с суровыми законами.
Чем же подавил его этот невысокий, да и не шибко крепкий человек? Что было в нем такое, чего не мог понять и преодолеть Хыч? Что обезоруживало, вселяло смуту в душу? Хыч и прежде, еще по лесоучастку, знал: Стрельцова на арапа не возьмешь! Его надо бить из-за угла. И хотя Хыч был здоровее Егора Романовича и, наверное, ловчее, встать и пойти грудь на грудь с голыми руками он не решался, а нож — самое надежное оружие — Стрельцов отобрал у него.
Неловко, позорно, до бешенства стыдно Хычу. Он, как на репетиции, готовясь к действию, оскалился, во рту его, на месте выбитых зубов, зачернела пещерка, и, взвинчивая себя принужденно, двинулся на Стрельцова. Егор Романович не отпрянул к костру, не попятился.
— Ну? Чего скалишься? Спятил? Может, в штанах мягко, так вытряхни.
Ободранный, посиневший Хыч был жалок, а птица с русалкою в когтях на его груди походила на курицу. Да и сам он походил на курицу, и насмехаться даже над ним было неинтересно. Давеча, когда сгреб Егор Романович за грудки Хыча. мелькнула мысль столкнуть эту падаль вниз — там, в распадке, забьет его каменьями, затянет илом, лесным хламом, и никто не узнает, куда делся Хыч. Будут неприятности у начальника лагеря и у начальника охраны, но и они вздохнут с облегчением, если уверятся, что исчез навсегда этот никому не нужный вражина с земли. Не столкнул, не поднялась рука.
— Разболокайся, сушись и колено перевяжи, — досадуя па эту ненужную и неуместную жалость, сердито приказал Егор Романович.
— Дай уйти!
— Зачем?
Хыч не ответил. Он и сам не знал — зачем? И никогда такого вопроса себе не задавал. Ему просто надо было повольничать, тайгой нанюхаться, до людей добраться, достать одежонку, документы и… побежать, поехать… Как зачем? Покуролесить. Свободой дохнуть, свободушкой, запретной, заманчивой, хотя и ничего не обещающей, кроме погони и страха быть пойманным, быть выданным и снова водворенным в лагерь. Добавят срок, дадут нагоняй. Но все это ерунда. Все это привычно. Зато лагерные корешки с восторгом слушать его будут, лучшее место на нарах, пузырек одеколона, почет и уважение ему за мужество и отвагу.
И зависть, зависть…
А он наговорится, понаслаждается славой, и снова начнет ждать удобного момента, и снова мечту о побеге будет носить в себе, как женщина носит дитенка, испытывая тревогу и непонятную другим людям сладость. В этом и была настоящая сущность его жизни, полная ожиданий, полная риска, никому, правда, ненужного. И разве понять эту жизнь таким духарикам, как этот израненный, небось даже и в кэпэзэ не сидевший мужичок — лесной начальничек? Чтобы понять вкус свободы, надо потерять ее прежде.
Ах, свобода, свобода! Вот она, рядом, и на пути всего лишь этот мужичок. Да неужто он?..
— Зачем? — повторил вопрос Егор Романович, и Хыч поморщился, туго придумывая, что сказать.
Егор Романович вытер ладонью затрепетавшего от удовольствия коня, снял с него седло, потом сел подле огня, закурил и стал сушить изодранные штаны. Курева Хычу он не предложил, хотя у того и загорелись глаза жадностью.
Стянув сапоги, Егор Романович приспособил на палочки портянки и задумчиво уставился на огонь.
— У людей и без тебя горя и бед хватает, — не дождавшись ответа, сказал он и показал на огонь: — Иди уж, грейся, скрючился как цуцик.
Оттого что Егор Романович не дал закурить и говорил с ним так обидно и никакого страха и злобы не показывал, Хыч вдруг заныл, стал кататься по камням и колотить себя кулаками но голове.
— Эк избаловался! — глянул через плечо Егор Романович и досадливо покачал головой.
— Семь побегов! — выл Хыч. — Я дохлятину ел!.. Баранину-у-у! Копченую-у-у! Знаешь, что это? — И вдруг бросился на Егора Романовича, растопырив пальцы с грязными ногтями: — Уйди с дороги, фрайер! З-задавлю! В мешке, копченого, унесу!
Егор Романович пихнул Хыча ногой, рванул подпругу от седла и вытянул его по морде. Потом лупил уже по чему попало, приговаривая:
— За дохлятину! За баранину! За пакость! — Обессилел. рявкнул задышливо: — Нишкни! — Рявкнул так, что Мухортый прижал уши и переступил, а Хыч тоненько, по-щенячьи заскулил, забившись снова под скалу:
— На свободу хочу, дяденька-а-а… На свободу…
— «Дяденька»! — яростно передразнил Егор Романович и показал на его голову с лишаями седины. — Ты погляди на себя! Мы ж, поди, одногодки, а ты — «дяденька»! Вон она, твоя свобода! Вся на башке! Каждый побег мохом пророс. Зачем жизнь-то промотал? На, закуривай, — резко сунул он Хычу старый, сделанный из алюминиевого поршня портсигар.
Хыч утерся рукавом и неуверенно взял портсигар. Повременил, глядя на Стрельцова, вдруг засуетился, выхватил щепотку махорки, сделал самокрутку. На крышке портсигара заметил полустертые буквы и с трудом прочел, шевеля побитыми губами: «Егору — другу-фронтовику — на вечную память».
Захлебнувшись дымом, закашлялся было, но опять скосил глаза на портсигар, пытаясь что-то осмыслить. «А-а, это у него старые раны, с фронта».
— Гляди, читай, — положив на камень портсигар, кивнул Стрельцов. — Земляк подарил, шофер нашей батареи, Митякин Петр. Сына в память его нарек. — Егор Романович помолчал, горько выдавил: — Погиб хороший человек. Погиб не за-ради того, чтобы всякая вша… — и тут же остановился, прервал себя: — Отправимся, пожалуй, хватит разговору.
— Куда?
— Куда надо. Ты что думаешь, я тебя отпущу, думаешь, добреньким сделался, табачку дал? — Сердито, рывками Стрельцов принялся натягивать на себя еще парящую рубаху.
— Спину-то перевязал бы, — буркнул Хыч, незаметно подобравшись к костру. Он жадно дохлебывал дым из мокрого окурка. Даже здесь, в лесу, курил он украдкой, из ладоней.
Егор Романович разорвал майку, сунул лоскуты Хычу и, пока тот неумело обматывал его спину, касаясь холодными руками тела, все глядел перед собой безотрывно.
Далекое солнце удивленно пялилось с небес на разгромленную землю, над которой устало парило сыростью и вспухали густыми облаками над расщелинами речек туманы, расползаясь по горам, укрывая разбитую тайгу.
— У тебя хоть родные-то есть? Отец, мать, жена, дети? — спросил Стрельцов.
Хыч зубами ловко затянул узелок на спине Егора Романовича и уныло шмыгнул носом.
— Нету. Никого нету. Безродный я.
— Безродный? Почему?
Хыч пожал плечами, протянул руки к костру, долго и неподвижно сидел и глядел на огонь. Была какая-то первобытность в его позе, и больно было оттого, что ничего-то он не понимал. Мог часами глядеть вот так на огонь, и в этом полусне, в бездумности этой было гнетущее наслаждение, тоска о неведомой жизни и еще о чем-то недоступном его голове.
— Жись так распорядилась, — выдохнул он со свистом полой частью рта, и, разжалобив себя таким вступлением, продолжал Хыч: — С голоду в двадцать первом родители померли. Хорошие были… Да, хорошие! — звонко выкрикнул Хыч и заторопился: — Мать — учительница, детей арихметике учила. Отец — анженер. Да. Машины придумывал! Всякие, разные, ерапланы и трактора, и еще сеялки, хых, пашеницу сеять, да!
«Чисто дитя, — с грустью заключил Егор Романович, прилаживая оторванную подпругу к седлу. — Как начнет врать, так и хых. Небось касаемо тюремных дел, там — как рыба в воде. А о себе даже сбрехать не умеет. Заколодило, верно, ум-от». Однако говорить Хычу он не мешал. А тот уже вел рассказ о том, как однажды влюбилась в него «до ужасти» дочь одного «ба-альшого» человека, и такая она была раскрасавица, и такая у них любовь пошла, какой свет не видывал.