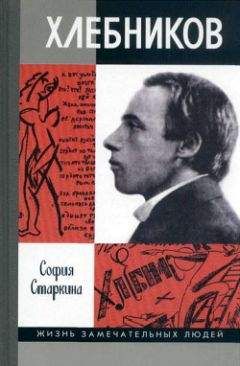- Предполагаю, что некоего босяка назвали Буржуином, - сказал я преувеличенно громко, чтобы скрыть охватившее меня волнение.
- Ничего подобного, юродствует, - бесстрастно заметил редактор и тут же пояснил: - Поэт-Летописец, через дефис, но Летописец тоже надо писать с прописной.
Он как-то залпом проглотил яичко и замер, как бы прислушиваясь к его продвижению по пищеводу. Усатый улыбнулся, а многие за столом засмеялись. Правда, я так и не понял, к чему относился смех: то ли к Буржуину, то ли к Поэту-Летописцу, то ли к залповому проглатыванию яйца. Как бы там ни было от меня отстали. И хотя съел я немного, а еще меньше выпил, ланч до того разморил, что на рядовой вопрос белобрысого (сидел напротив и на правах хозяина делился со мной закуской), что подать, ответил, что, пожалуй, ничего, потому что очень сильно хочу спать.
Усатый, вставая из-за стола, хохотнул:
- Отличная нервная система, будем завидовать!
За столом заулыбались, я почувствовал к себе такое искренне дружеское расположение, словно вдруг, нежданно-негаданно, совершил безумно смелый поступок и спас всех присутствующих от неминуемой погибели.
Усатый попросил редактора и черноголового после обеда спуститься к нему, а всех остальных - действовать по расписанию и не пренебрегать своими прямыми обязанностями. Не знаю, что меня пленило в усатом: интеллигентные манеры, внутренняя собранность или олимпийское спокойствие, - но я почувствовал, что глава здесь - он. И он не выскочка, не самозванец, а, по всей вероятности, сугубо военный человек. Может быть, морской офицер, специально приглашенный для руководства данным предприятием. Что за предприятие, кем приглашен? Оставалось тайной, которую, как это ни странно, мне не хотелось разгадывать.
ГЛАВА 12
Я подвинул стул к стене и, скрестив руки на груди, решил прикорнуть. Сквозь дрему слышал странные разговоры о том, что Дом всех газет, очевидно, будет под арестом до суда. Что с обеих сторон (разумеется, я не понимал, какие стороны или чьи) поступило огромное количество жалоб на какого-то литературного работника, который заделался не то Поэтом-Летописцем, не то Буржуином, но которому все равно кранты. Мне привиделось, что я Самовар-Буржуин. Толстый, пузатый, а на месте пупка у меня - кран. Я стою фертом, подбоченившись, посреди какого-то громадного стола, и у меня одна задача - никаким образом не давать чаю тянущимся со всех сторон стаканам, облаченным в какие-то живые подстаканники. Никто лучше меня не знает, что, как только кран будет открыт, я, как Самовар-Буржуин, немедленно исчезну, потому что вся моя пузатость в "нечаянной чайности...". Меня дергают, толкают, трясут, наконец, так бесцеремонно, что я просыпаюсь.
- Вот уж действительно отличная нервная система! Как сурок спать! весело заметил редактор и сказал, чтобы я шел за ним. Мы прошли через библиотеку, мимо стеллажей книг, через какие-то выгородки и оказались в небольшой глухой комнатке с одним окном, стулом и столом, на котором стоял телефон со снятой трубкой - слышались короткие гудки.
Редактор сел на стол и, не глядя, положил трубку на аппарат.
- Располагайся, - он указал на стул, - и рассказывай все-все подчистую: почему пришел сюда, что тебе нужно, кто послал? В общем, всё - и начистоту, тебе же лучше будет, - предупредил редактор с такой строгостью, словно у него уже имелись неоспоримые доказательства, компрометирующие меня.
- Никто не посылал. Сам пришел, захотелось взять авторские экземпляры со своей публикацией...
Внезапно зазвонил телефон. Редактор остановил меня и так же, не глядя, как положил, снял трубку.
- Внимательно слушаю, редактор "Н... комсомольца". Да-да, это "горячий" телефон.
Ладонью прикрыл трубку, подал мне:
- Послушай, только ничего не отвечай, я сам поговорю с ним.
- Докладываю со всей строгостью и ответственностью, - услышал я отчетливо присевший от волнения, хрипловатый баритон. - В пятницу, четырнадцатого августа сего года руководитель литературного объединения вашей газеты Дмитрий Слезкин под личиной литературного работника собрал с каждого вновь прибывшего на заседание вольнослушателя по семь целковых. С целью напечатать своим способом "Книгу книг" для восхваления советского тоталиризма, чтобы поддержать как-то: Янаева, Крючкова, Язова, Павлова, Пуго и других закоренелых гэкачепистов. Слезкин планирует прибыть в редакцию на Успение Пресвятой Богородицы, двадцать восьмого августа. Предлагаю тут-то его и взять. (Продолжительная пауза, потом вопрос - записал ли?)
Я вернул трубку, не зная, что и подумать.
- Нет-нет, повторите последнее предложение, - попросил редактор и шепнул, чтобы я приблизился и слушал вместе с ним - сейчас будет самое интересное.
После некоторой паузы он спросил звонившего:
- Ваша фамилия, имя и отчество?
В трубке неуверенно кашлянули.
- Так тожеть нельзя. По радио объявили, что можно свидетельствовать без своей фамилии, конфидицно.
"Господи, это же староста литобъединения, мой Лев Николаевич!"
Редактор согласился, что можно без фамилии, но в деле со Слезкиным особый случай.
- Он пойман и взят под стражу, а на допросах свою вину отрицает, говорит, что деньги на "Книгу книг" сдавались добровольно, требуется очная ставка.
В трубке опять кашлянули.
- Лично я деньги не сдавал.
- Вот и хорошо, - одобрил редактор. - Будете вне всяких подозрений и тем еще лучше поможете следствию по делу гэкачепистов на местах, - последние слова произнес так, словно прочитал полное название дела с лежащей перед ним папки.
В ответ на другом конце провода положили трубку. Редактор тоже положил, но не на аппарат, а на стол. Видя мою растерянность, даже притюкнутость (я был в таком смятении, словно мне опять подали полотенце), он сказал:
- Чувствуешь, Митя, тебя обложили со всех сторон, запираться бесполезно - выкладывай.
Я не понимал, что происходит. Голова лопалась от вопросов, которые, словно радиоактивная соль, выпадали в осадок, разрушали ум. Мгновениями казалось, что я рехнулся, мой мозг отказывался мне служить. "Староста чем-то напуган - чем? Кто такие закоренелые гэкачеписты и почему на меня пало подозрение, что я их лазутчик?" Вопросы, вопросы и ни одного вразумительного ответа, какой-то сплошной "тоталиризм"! Нервно засмеявшись, вытащил из внутренних карманов пиджака три пачки денег, перетянутые белыми нитками, и положил их на стол.
Редактор молча встал, неторопливо выдвинул верхний ящик стола. Я увидел плотные пачки двадцатипятирублевок, лежащие трехслойными рядами и стянутые банковскими бумажными полосами. "Откуда здесь так много денег и почему он показывает мне?! Неужто банк... а меня подставили?! Почему меня?! "Тоталиризм"!.."
Я откинулся на спинку стула, чувствуя, что ворох новых вопросов только усиливает ощущение, что я поглупел окончательно. Уловив, что я потрясен увиденным, редактор так же неторопливо, как выдвинул, задвинул ящик.
- Итак, Митя, - он засмеялся, - взяток не беру.
Редактор протянул мне подкожные деньги, которые в сравнении с теми, что лежали в ящике стола, показались хотя и жалкими и замызганными, но такими домашними и родными, словно газетные вырезки моих опубликованных стихотворений. От тех же, лощено-тугих, пахнуло холодной отчужденностью, я почти физически ощутил изморозь какого-то потустороннего ветерка.
- И что же, по-вашему, меня ждет? - равнодушно спросил я и, внезапно даже для себя, идиотски хихикнул. (Ужасно некстати вспомнилось письмо Незримого Инкогнито, в котором он пророчествовал Дивному Гению шествие в Светлое Будущее непременно в кандалах.) Я хихикнул оттого, что легко представил себя Дивным Гением.
На подоконнике стоял графин с водой, редактор подал стакан. Он почувствовал, что я не в себе.
- Митя, успокойся! Даю слово, что здесь (он постучал по верхнему ящику стола) нет никакого криминала. Ответь: почему ты пришел сюда, с какой целью? И вот увидишь, я тоже отвечу на все твои вопросы.
Выпив воды, я повторил, что никто меня никуда не посылал. Я сам пришел в ДВГ. В конце концов, имею право прийти на работу, имею право взять авторские экземпляры газеты, в которой опубликовано мое стихотворение? А потом, кто такие гэкачеписты и почему именно я должен быть их лазутчиком?
- Гэкачеписты - враги демократии. И ты это знаешь не хуже меня, сказал редактор. - Иначе зачем бы они держали Горбачева в Форосе?!
Мои расширенные глаза, удивление, наконец, глупейшие вопросы, на которые мог бы ответить любой школьник, привели редактора в замешательство.
- Митя, ты либо притворяешься, либо только что вышел из лесу! Неужели ты газет не читаешь, телевизор не смотришь, радио не слушаешь?! С людьми-то в общежитии встречаешься или ты живешь в мусорном ящике?!
Конечно, он не хотел меня оскорблять, но оскорбил. Я разозлился, сказал ему, что он очень прозорливый -да, не читаю, не смотрю и не слушаю! Мне до того обидно стало, что сижу перед ним действительно дурак дураком, - у меня даже комок подкатил к горлу. Чтобы не выдать себя, высморкался и, украдкой вытирая глаза, увидел, что высморкался не в носовой платок, а в премию, то есть в демократическую пару белых носков, вот только что мне всученных. Он тоже увидел - мы переглянулись. Понимая, что он уже ничего не поймет, сказал ему, чтобы он ничего не думал - от меня жена ушла. И совершенно непроизвольно высморкался еще раз.