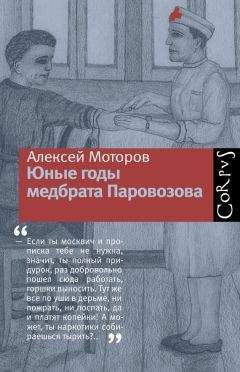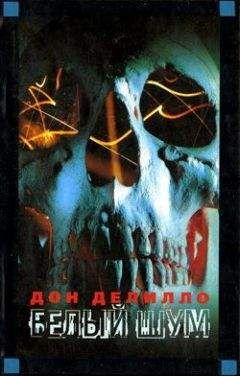Кац следил за развитием действия вполглаза: сама идея борьбы с солнцем казалась ему безвкусной шуткой, отчасти кощунственной. Куда интересней выглядели малевичские костюмы и декорации, как будто составленные из одной ломаной линии, прошивающей и простегивающей все пространство сцены! Линии, резко меняющей свой цвет в точках излома... Каца раздражал и настораживал черный полуквадрат, появившийся потом в полном объеме на сменяющих друг друга декоративных задниках. Затею Малевича нетрудно было разгадать: вот корневой знак, основополагающая простейшая фигура, открывающая эпоху победы разумной механики над обветшалым опытом прошлого. Точка отсчета нового искусства, пришедшего на смену старым образцам с их перспективой, замкнутой ограниченными возможностями звериного зрения, с их примитивным и жалким копированием предметов. Квадрат Малевича - это как бы яблоко Ньютона, пробившее лаз в новую эру.
Но всё во Вселенной начинается и заканчивается точкой, в это Кац верил даже больше, чем в невидимого еврейского Бога. Круг есть увеличенная Точка. А Квадрат - лишь обрезанный по краям, искалеченный Круг.
Через иллюминатор Круга на занавесе можно было бы вглядываться в неподвижное вечное время, в будущее и прошлое. В макромир Космоса, осыпанного увеличенными точками звезд и планет, и в атомический микромир эту действующую модель вселенского устройства. Квадрат тут некстати, как корове седло.
А если этот четырехрогий Черный квадрат лишь символ и ни на миг не более того, то что же здесь Малевич, заявивший себя врагом и могильщиком символизма?
Зрителей, однако, увлекало сценическое действие, зал ревел, рычал и возил ногами по полу. Тем временем громоздкие футуристические силачи уверенно расправлялись с гнилым прошлым человечества. Особую их ярость вызывала фигура Солнца и те слабонервные романтики, которые приписали этому небесному телу прямо-таки мистическую красоту - в то время как функции звезды ограничивались автоматическим освещением и обогревом земной поверхности.
- Солнце заколотим
В бетонный дом!
орали и грозили Силачи. Некоторые с ними соглашались, иные категорически возражали и готовы были вступить в драку. Зал ходил на своих местах, как поле под порывистым ветром. Администратор Ананьев, выглядывая из-за кулис, шептал: "Боже мой, Боже мой!" Услышав, как стоявший по соседству Малевич, сложив руки на груди, внятно проговорил: "Сегодня мы открыли дорогу новому театру!", администратор Ананьев горестно сморщил гладкое круглое лицо.
Вслушиваясь в текст, Кац удрученно покачивал головой и жевал губами: язык Крученых его раздражал, он связывал со словами иные надежды. Не для того Главный Хлебопек разделил языки меж сущими, чтоб дети Адамовы рычали, ревели и блеяли. Выворачивая логику наизнанку, нельзя прийти к алогизму, можно только уронить руки и сесть на теплый камень у дороги. Чистый абстрактный разум если и постижим, то вряд ли он имеет хоть какое-нибудь отношение к победе над Солнцем... А вот костюмы, действительно, получились у Малевича просто хоть куда! Одежду Главный Костюмер не распределял, одежда предмет игры свободного разума, очищенного от мусора условностей. Разноцветные штанины - это хорошо. Это хорошо для театра и для жизни, а больше ни на что не годится: на бумаге и на холсте такие штаны, даже если их напялить на Леонардо, выглядят декоративно. Декорация - мир Малевича, он чует сцену своими бычьими ноздрями. Но ему надо бы научиться рисовать, это никому еще не вредило.
Спектакль шел рывками, актеры пели и ругались, перекрикивая зал. Задник декорации понемногу багровел, лиловел, круглое желтое Солнце уступало страшному Черному квадрату. Свет отступал перед тьмой, добро перед злом, мир перед войной. Кац скучал. Закрыв глаза, он увидел ухоженное травяное поле, по которому дробно бежал носорог. На бронированной спине зверя сидела обнаженная девушка с красным маком в руке.
Солнце было совершенно подавлено и обречено на погибель. Студенты затянули радостную финальную песню. Публика повскакивала с мест и бросилась к сцене. "Автора! - ревели и требовали зрители. - Автора!" И неясно было, что собираются сделать с Крученых: восторженно нести его на руках или разорвать в клочья, на собачью закуску.
За кулисами администратор Ананьев не скрывал тревоги: толпа способна была разнести театр. Кто-то уже вскарабкался на просцениум и жестами приглашал желающих последовать за собой. Актеры, выбежавшие на поклоны, опасливо отступили от рампы и теснились в кулисах.
Одернув пиджак, Ананьев шагнул на сцену.
- Дорогие господа! - закричал Ананьев и оглядел ходящий ходуном зал. Наш уважаемый автор господин Крученых уехал в Крым и поэтому не может поблагодарить вас лично. Он...
Разбойный свист и улюлюканье были ответом администратору.
Матвей Кац поднялся со своего места и, не оглядываясь, легко зашагал к выходу. После душного темного зала серебристая студеная ночь казалась принадлежностью иного, праздничного мира.
- А как вы думаете, голубчик, - коснувшись вытянутым пальцем плеча больного, с любопытством спросил главврач, - Бог - есть?
- Есть, - сказал Кац.
- А какой он? - продолжал вкрадчиво допытываться Левин. - Добрый? Злой?
- Веселый, - не подымая глаз от досок пола, сказал Кац.
10. Фрау Лидия Христиановна
Сибирь оказалась не такой страшной, как представлялось. Снега были почти польские.
Поезд - эта непременная составляющая русской жизни - уже четвертый день тащился по степям и буеракам, а конец пути как бы все отодвигался и ускользал. Ровный ход вагона по рельсам навевал тоску; тянуло трястись на горбатых дорогах, изредка пересекавших железнодорожное полотно и извилисто убегавших черт знает куда, в неизведанные дебри. Первоначальное ощущение самоличной победы над пространством, таким послушным и услужливым из железной коробки вагона, бесследно прошло. Мелькание на оконном экране надоело и не приковывало более взгляда. Оставалось лишь одно желание: как можно скорей попасть в этот самый Новосибирск.
Ничего, тем не менее, иного, как тупо пялиться в окно, Мири не оставалось. Забравшись с ногами на свою боковую полку, она до изнурения и до ломоты в глазах глядела на черные заснеженные елки, подступившие к насыпи. Азиатские пески, по которым не спеша куда-то брели люди и верблюды, остались далеко за спиной. Мири знала, что в тот желтый, в изумрудную полоску мир она уже никогда не вернется, и капли сладкой грусти звонко падали ей на душу: не хотелось терять этот кусочек прошлого, эту необременительную собственность. В фанерном чемодане, под висячим замочком, хранилась память: фотография Мурада с едва пробившимися над верхней губой усиками, шелковый мешочек с солеными абрикосовыми косточками и подаренная разноцветным Кацем треугольная картинка - чугунный всадник тяжело скачет над улицей Октябрьских Зорь, по которой идет кошка с рубиновыми глазами и золотым бубенчиком на ошейнике.
Мурада заберут на войну, в солдаты, через три месяца он будет убит под белорусским Гомелем, и в памяти польской беженки Мири этот узбекский паренек сохранится навсегда - на самом донышке, в потаенном месте. И о чудаке Матвее Каце она будет вспоминать время от времени и разглядывать его картинку - и в Сибири, и в Польше, и потом в Кельне, в роскошном особняке богатого предместья.
Новосибирск явился вдруг, будто встречный из-за поворота. Вокзальный перрон был затянут льдом и присыпан снегом. В ранних сумерках размыто светились огоньки вокзала. Встречающие напряженно и пытливо вглядывались в окна еле ползущих вагонов, прибывающие жались к стеклам и вертели головами. Будет встреча, будет праздник. Приехали.
Мири встречали. В вагон, против течения людей, протиснулся старый еврей в тяжелом черном пальто, в вытертой меховой шапке, из-под которой выбивались густые серо-седые волосы.
- Мирьям! - заглядывая в спальные боксы, звал еврей. - Ищу Мирьям!
- Я здесь! - разглядев старика, закричала Мири. - Дядя Рува, это вы?
Этот незнакомый дядя Рува, этот Рувим, возникнув вдруг из абсолютного ничего, стал теперь для Мири поводырем, домом и надеждой на завтрашний день. Можно было знакомиться.
- Господи, Мирьям! Как похожа на маму, одно лицо... Ну бери же чемодан, и пошли!
Мороз схватывал дыхание, стеклянно покалывало нос. В трамвае, в теплой толчее, вернулся голос, и лицо больше не казалось чужим. Поглядывая на Рувима, Мири гадала: кем же он ей все-таки доводится? Двоюродным дядей? Троюродным дедушкой? Мама ему приходилась племянницей или кузиной?
Чем дольше ехали, тем меньше становилось людей в трамвае. Наконец, уже незадолго до конечной остановки освободилось местечко для Рувима, а потом и для Мири.
- Чемодан сюда ставь, в ноги, - оглянувшись, сказал Рувим. - А то ведь люди разные бывают... В поезде ничего не забыла?
- Нет, это все, - сказала Мири и сама задала наводящий вопрос: - А вы деда Мордке помните?