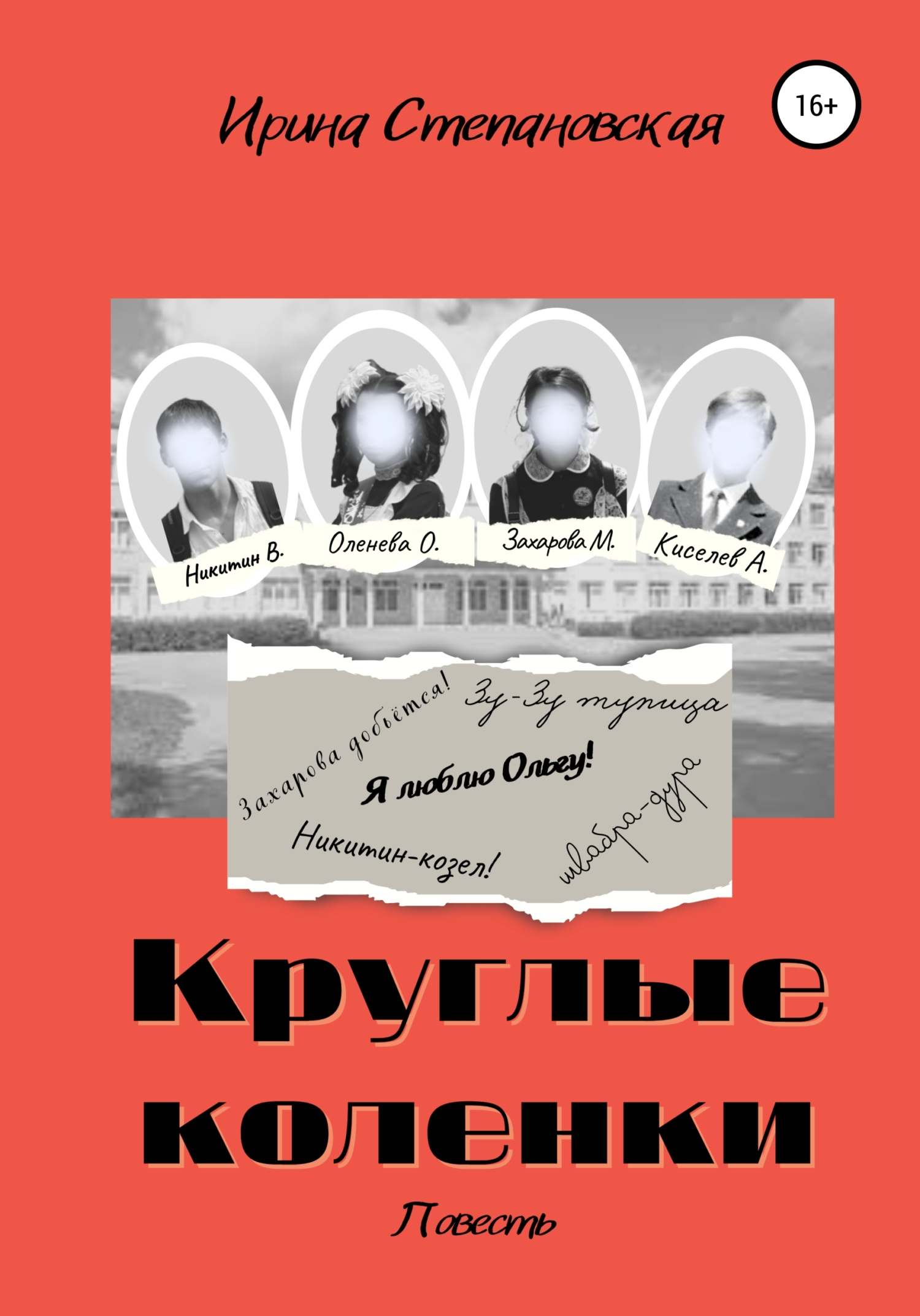нее простыню,? Неужели привезла с собой?
– Ко мне никто не приходил?
– Нет. Врач сказал, что зайдет через час.
– Нет, не врач…
– А кто?
Я не хотела называть имя. Свет лампы, яблоко, мои руки на его спине. Для меня само имя было любовь.
Потом послышался голос соседки по палате.
– Парень тут один к ней ходил. Очень уж она с ним сдружилась перед операцией, хе- хе… – Послышалось нежное поросячье хрюканье, и будто из теплого хлева вырвался в морозный воздух парок.
Мама помолчала. Потом наклонилась и сказала мне тихо в самое ухо:
– Тебе сейчас нужен покой. Надо дольше спать. Только в кино героини лежат после операции с прекрасно сделанным макияжем.
Мама сама спала на четырех стульях, составленных в ряд, неудобно подгибая ноги. Разрешение быть со мной дал ей главный врач, сделал исключение, как коллеге. Она давала мне пить, кормила бульоном и выносила судно. Смогла бы я также сделать для Миши? Конечно, смогла бы. Это ведь не подвиг, когда любишь. Подвиг, когда не любишь.
На третий день я спросила:
– Никто не приходил?
– Нет.
– Ладно. Дай мне причесаться.
Круглое маленькое зеркальце отразило потолок, потом повернулось вниз, и я увидела свое бледное лицо. Но глаза блестели, и в целом я себе понравилась. Пока я причёсывалась, мать смотрела на меня.
– Как замечательно, что операция уже позади. Сильно болит нога?
– Не очень.
Луиза де Лавайер упала с лошади и была хромой, но Людовик любил ее целых несколько лет, а ведь это был король! В конце концов, не только же в ногах дело. Пожалуй, те несколько дней после операции были единственным периодом в моей жизни, когда я перестала обращать внимание на свой физический недостаток, и вообще на любые недостатки бытия. Больные на костылях, двухъярусная каталка с круглыми отверстиями для кастрюль, душераздирающе скрипящая на поворотах, буфетчица с зеленым резиновым фартуком на животе, соседка по палате – рыжая с седой полоской у корней волос, с опухшим лицом и банкой компота из сухофруктов на тумбочке рядом, все эти люди и предметы, которые я могла видеть со своего места, приобрели какую- то несущественную временность.
Не знаю уж откуда и каким чудом в те годы мама доставала для меня курицу, как она договаривалась с этой буфетчицей в зеленом фартуке сварить мне бульон, но когда молод и влюблен на чужие бытовые подвиги мало обращаешь внимание. Бульон был готов к обеду, наисвежайший, я его пила и даже не думала спросить, каким чудом он появился в больнице.
Тот, кого я ждала, так и не появился, и в одно очередное утро ощущение несчастья вдруг заполнило меня, как заполняет след от ступни в мокром песке дохлая, растекшаяся медуза. С глаз моих улетучилась пленка запоздалой новорожденности, но первыми и сразу вернулись запахи. Запахло больничной кухней и чьей- то нечистой постелью, чесноком из соседской раскрытой тумбочки, в коридоре на кого- то кричала медсестра. Я увидела, как осунулось мамино лицо, какие глубокие тени у нее под глазами. Все встало на свои места, и я поняла, что хрустальные башмачки ждать больше не стоит.
Но внешне я была спокойна.
Вместе с лечащим врачом меня осматривал и известный профессор. Они заходили вдвоем в палату, мама просительно заглядывала обоим в глаза. Мой врач подкручивал какие- то винты в моём пыточном агрегате, чтобы растягивалась кость, профессор наблюдал. Когда я морщилась от боли и закусывала губы, он ободряюще похлопывал меня по плечу, но иногда промахивался и попадал по голове. От профессора пахло мылом, чем- то медицинским и колбасой. Наверное, перед тем как прийти ко мне, профессор завтракал.
В целом мое состояние становилось лучше. Физическая боль уменьшалась, душевная же спряталась и стала засыхать где- то внутри меня, покрылась коркой однообразных больничный дней, скучных завтраков и обедов, подкручиванием агрегата, судном, которое было для меня проблемой. С облегчением я узнала, что мать сняла где- то комнатушку. Исчезли стулья возле моей кровати, веревка и ширма. Теперь она не была все время со мной в палате, и для меня это было легче. Мне казалось, она видит, что я притворяюсь. Внутри меня появилась не видимая глазу, но тягостная и хорошо мной ощущаемая дрожь. Я опять стискивала зубы, мне казалось, если я расслаблюсь, они застучат. Главным для меня стал самый незначительный шум в коридоре, любые шаги, чужие разговоры. У меня обострились слух и зрение. Мне казалось, что из своей палаты я вижу не только коридор моего отделения, но и все лестницы, лифты и закоулки больницы с первого до последнего этажа. Но больница, не смотря на свою переполненность, оставалась пустой для меня – моего друга в ней не было.
Недели через три мне разрешили вставать и немного ходить с костылями. Однажды я шла по коридору мимо знакомого кабинета, и вдруг мне показалось, что мой друг там, я даже слышу его голос. Я стояла под дверью и ждала. Проходящая медсестра посмотрела неодобрительно. Очевидно, болезнь делает людей пугливыми, неуверенными в себе. Я вдохнула, как будто собиралась забросить мяч в корзину, и заглянула. Мой лечащий врач в одиночестве сидел за своим столом и пил чай.
– Что тебе, Захарова?
Я втянулась на костылях в милую мне комнату, повела глазами влево- вправо и вышла.
Стал известен срок выписки. Моя измученная мама обрадовалась.
– Майя, билеты брать на поезд или на самолет?
– Если достанешь, на самолет.
– В поезде можно лежать, а сидеть в самолете тебе может быть неудобно.
– Ничего. – Теперь я хотела как можно скорее очутиться дома.
Наконец наступил день последней встречи с врачом.
Я пришла в ординаторскую за документами. Мой лечащий врач впервые посмотрел на меня не как на прооперированную больную, как на человека.
– О чём это мы грустим?
Я хотела запомнить до мелочей эту комнату. Вот кушетка, вот стул, мы придвигали его поближе, чтобы бросить на него одежду. Вот лампа…
Доктор протянул мне выписной эпикриз. От робости у меня охрип голос. Болезнь играла со мной в плохую игру.
– Простите, вы не знаете, где ваш друг? Он обещал меня навестить.
Врач с раздражением шлёпнул личную печать на листок с рекомендациями. Без сомнения он знал, что происходило по ночам в его кабинете.
– Я здесь больных лечу, – голос у него был сердитый. – И понятия не имею почему кто- то к вам не зашел. Гардероб открывается после двух.
Так он и запомнился мне в бесконечной череде врачей: своим раздражением и тем, что когда- то учился с моим другом в школе. Несправедливо, ведь он меня лечил.
Я вернулась в палату и стала собирать вещи. Мама ушла ловить частника, чтобы ехать в аэропорт. Палата теперь казалась просторной: была убрана простыня, смотана верёвка. Если бы кто- нибудь захотел