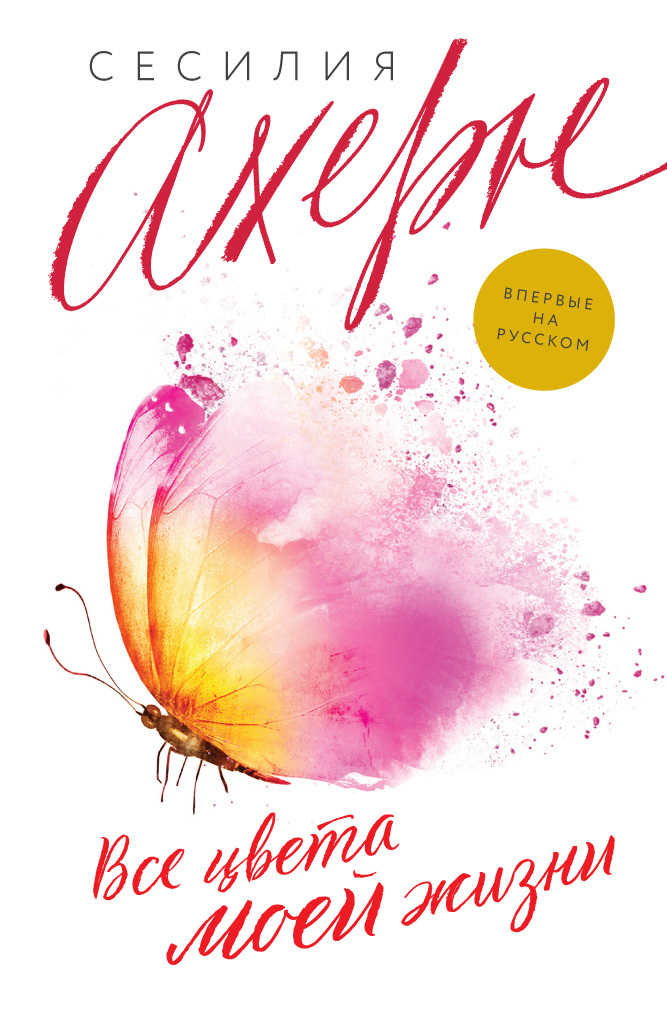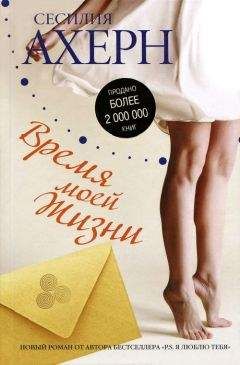у нее нет другого дела, как только смотреть из окна на наш неопрятный садик. Ей он ничуть не противен, не то что мне; она растет и тянется к нему своими длинными листьями, как будто хочет показать, потрогать стекло и сказать: «Посмотри, ну посмотри же туда».
И я смотрю. И вижу давно переросшую траву с проплешинами в ней. Сорняки и запущенная живая изгородь нависают над ухоженным садиком Гангали. Она указывает мне на все это, я понимаю намек. И у меня появляется желание сделать вид приятнее для нее. Я начинаю приводить сад в порядок. Лили смотрит из окна и думает, что я, наверное, тронулась. Она слышала, как я разговариваю с алоэ, потому что сейчас я совсем этого не стесняюсь. По утрам произношу «доброе утро», говорю с Верой о погоде, о всяком разном, а Лили слушает и закатывает глаза. Иногда, правда, тоже заговаривает, чтобы подействовать на меня: «Вера, по-моему, сегодня кто-то встал не с той ноги» или «Ты посмотри, Вера, – мы сегодня опять едим подметку какую-то, а не стейк».
Садоводство – дело затратное, да к тому же требует времени и терпения, а ни того ни другого у меня и в помине нет. Первым делом я принимаюсь за траву, за то, чтобы снова сделать землю совсем здоровой. Мы наконец оборудуем дом так, как нам нужно. Лили больше года не появлялась в саду, хотя я не понимаю, что она там делала, даже когда могла ходить; может, курила, но курила она почти всегда дома. Теперь у нас новый пандус, а это значит, что она выбирается наружу, смотрит, отпускает ядовитые замечания.
Поначалу я просто не могла терпеть ее рядом с собой в саду. Ее присутствие, мягко говоря, не успокаивает: она содрогается при каждом порыве ветерка, как будто ее вот-вот сдует, машет на каждую пролетающую мимо птицу, как будто она ее убьет. Она не создана для выходов на улицу. Она все время указывает, где что я сделала не так и где что упустила.
Птицы клюют семена вновь посеянной травы; сначала она, как и раньше, похожа на кочки на болоте, но со временем я понимаю, что надо делать, и работаю на своем участке чуть ли не с маниакальным вниманием. И в конце концов получается яркая лужайка, почти ненастоящего, кислотного, зеленого-презеленого цвета. Все травинки совершенно точной, одинаковой длины, как будто я, ползая на корточках, подрезала их ножницами. Даже Вера, которая успела подрасти, касается оконного стекла кончиком листа и как будто говорит: «Ну надо же!»
Лили осматривает сад, морщась от солнца.
– Хорошо? – спрашиваю я ее. Лужайка приведена в полный порядок, ей не к чему придраться. Ни пропусков, ни проплешин, ни кочек, решительно ничего такого.
– Лучше бы ты цветы посадила, – произносит она.
* * *
Чуть ли не каждый день я где-нибудь да вижу Дейва. В супермаркете, в парке, на автобусной остановке. Иногда кажется, что, кроме нас, никто не бывает в общественных местах – все на работе; еле заметный, тонкий дневной слой общества почти целиком состоит из матерей с грудными младенцами, пожилых и безработных. Он тоже исполняет обязанности сиделки, всегда и везде появляясь вместе с братом Кристофером, который страдает сильным аутизмом и нуждается в круглосуточном присмотре. Дейв неизменно пребывает почти в нереально отличном расположении духа, и его цвета подтверждают, что он не притворяется. Вообще-то они мало о чем говорят, и это придает ему загадочности. Цвет у него чаще всего один, серый, но зато оттенков – не меньше четырех. Я видела серый на людях, он бывает и положительный, и отрицательный. Отрицательный означает депрессию или нечестность. Цвет этот встречается часто, но вот его оттенки я вижу в первый раз. Я поняла, что положительный серый вокруг него – это такой нейтралитет. Он уживчив, легко идет на компромисс, он будет чем угодно, чем ты только захочешь, он умеет легко освоиться в любой обстановке и не привлекать к себе особого внимания.
Отца Дейва не стало, когда он был еще маленьким, а когда ему исполнилось восемнадцать лет, от рака скоропостижно скончалась мать, и на его долю выпал уход за Кристофером. Я много могу рассказать о Дейве, и все-таки этот серый окутывает его, как плащом, делает непроницаемым. Я не могу уловить его взгляд, только иногда встречаюсь с ним глазами поверх голов Лили и Кристофера, но таким способом связь не установишь. От него никогда не услышишь, что, все, мол, дерьмово, что все несправедливо, что день у него сегодня плохой или что его достал Кристофер. Нет, от него исходит сплошной позитив, и по идее я должна быть за это благодарна, особенно если вспомнить, какая атмосфера у меня в доме, но ощущение такое, что это блокада, запрет. Но кто я такая, чтобы критиковать способ, каким человек справляется с ситуацией?
– Жалко, – говорит однажды Лили, когда мы оставляем его с Кристофером на улице после неловкого разговора о погоде, который продолжался дольше, чем обыкновенный разговор о погоде.
– Что жалко?
– Молодого человека.
Для Лили это необыкновенно высокая степень сочувствия, и она меня удивляет. Я задумываюсь, а жалеет ли она меня.
– Не больше ведь, чем меня, – говорю я, чтобы проверить.
– Я – совсем другое дело, – оскорбленно отвечает она. – Ты сидишь дома, на работу ходить тебе не надо. По сравнению с ним – не жизнь, а малина.
Во мне тут же вскипает гнев за то, что она не в состоянии понять, чем я жертвую для нее, но, как могу, я придерживаю язык. Не может, что с нее возьмешь; ей нужно действовать, избавляться от всего, что в ней накопилось, грузить этим кого-то другого.
– Я иногда думала, можешь ли ты стать хоть немного такой же, как этот парень, Кристофер, – добавляет она.
Весь остаток пути домой я не говорю с ней ни слова – а это, получается, почти весь остаток дня. Гнев во мне не утихает. Я поднимаю ее с кресла-каталки не так осторожно, как надо, я тру ее губкой сильнее, чем надо. В конце концов, местами может помыться и сама.
Ясное дело: такой женщине, как Лили, которая никогда не рвалась работать, у которой никогда не было никаких стремлений, должно казаться, что я сорвала джекпот. Я точно не знаю, чем занялась бы, если бы не пришлось ухаживать за ней. Может, и предпочла бы остаться дома, но не потому, что святая, а потому, что боялась бы всего того, что, как сказал Хью, мне надо было