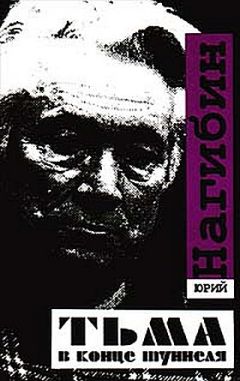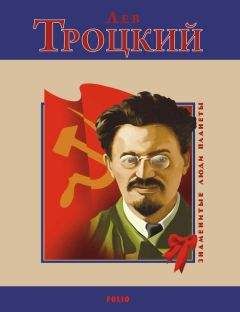Василий Кириллович отдувался и клацал вставной челюстью. Все остальные, съежившись и почти перестав быть, уставились в тарелки.
Впрочем, на одном конце стола жизнь продолжалась. На ярмарке бывают приливы и отливы, то она бурно вскипает движением, многолюдством, шумом, то притухает, пустеет и, кажется, вовсе замрет. Но карусель, нарядная, веселая, звонкая, знай себе крутится, ей дела нет до ярмарочных страстей, скачут по кругу веселые лошадки, неся на своих гладких спинах больших и малых. И тут, наособь, большая, расписная, золотая и розовая, ко всем благожелательная и ко всем равнодушная, накаляла свой отдельный праздник Татьяна Алексеевна.
Она пила рюмку за рюмкой, ничуть не пьянея, только расцветая все пышней: глаза горят, рот цветет, от волос — нимбом — золотое сияние. Какие мы все замухрышки рядом с ней! Даже такой приметный человек, как Звягинцев, в непонятном своем раздражении скукожился, будто из него выпустили воздух; лицо злое, выветрившееся, не тигриное, а шакалье.
Вдруг Галя, глянув на ручные часы, охнула и выметнулась из-за стола. Уже в дверях крикнула:
— Еще раз поздравляю, Людушка! У меня выездной концерт!
Был ли у нее в самом деле концерт, о котором она почему-то помалкивала, или ей стало невмоготу за недобрым столом, или были какие-то иные мотивы — не знаю, она исчезла раньше, чем кто-либо попытался ее удержать.
Вскоре тяжело поднялся Василий Кириллович.
— На завод надо. План горит.
План горел каждый квартал. И каждый раз буквально в самый последний момент случалось хорошо отрепетированное чудо: план с волшебной легкостью и быстротой перевыполнялся. Почему за один день удавалось сделать то, что не получалось весь месяц? Суть нехитрого чуда заключалась в выполнении плана по валовой продукции. Вместо мотоциклеток, танкеток, инвалидных колясок и прочей серьезной продукции нарезалось нужное количество болтов и гаек. И снова завод, носящий славное имя, оказывался во главе передовых предприятий. Ему вручалось переходящее красное знамя, которое, кстати, никогда никуда не переходило. Тайны тут не было никакой: от последнего разнорабочего до Сталина все знали, как выполняется план. Кого тогда пытались обмануть? Врагов — империалистов. Пусть поохают над индустриальными возможностями социализма.
Но до конца квартала было еще далеко. Завод неторопливо тачал мотоциклетки. О шурупно-гаечном аврале рано было думать. Ему не нужно было на завод. Он хотел принести в жертву родственным чувствам субботний вечер, но это оказалось невмоготу. Вот он и злился. Бедный Пашка Артюхин пал жертвой его тоски по Макрине.
Конечно, уловка с заводом никого не ввела в заблуждение, тут собрались опытные производственники, знающие, что почем. Его уход жестоко унизил Татьяну Алексеевну перед всей родней, но, видимо, магнит был столь притягателен, что соображения приличия, жалости к близкому человеку ничего не стоили, Татьяна Алексеевна не дрогнула, явив спартанское самообладание.
Звягинцев ушел, но веселье так и не возгорелось. Собравшиеся ощущали этот праздник как тризну, как поминки по Людиным мечтам. Правда, пить стали энергичней и смелей закусывать. На Татьяну Алексеевну бросали исподтишка сочувственно-недобрые взгляды. Ночная смена, на которую отправился Василий Кириллович, окончательно все рассекретила. Макрюху ненавидели, видя в ней угрозу фамильному благополучию. Утонченная интеллигентка из Моссовета и знаться не захочет с простоватой родней. И уж наверняка не поделится ничем из своего богачества, ее сын от первого брака скоро из армии придет, его обустраивать надо. Родня злилась на Татьяну Алексеевну, что та не сумела удержать мужа при себе, позволила ему зайти так далеко в незаконной связи и до сих пор не написала куда следует. Они всегда завидовали Татьяне Алексеевне, но сейчас злые чувства померкли в страхе за свое будущее. Татьяна Алексеевна была вce же своя, не кичилась, не заносилась, принимала, угощала, оказывала всякую помощь, и никому не хотелось окончательной ее отставки.
Татьяна Алексеевна отлично понимала чувства родни, но все они были ей глубоко безразличны. Она пила. Заливала горящий уголек. И вдруг послала мне через стол сияющую улыбку. Я ощутил ее как прикосновение. Она признала во мне единственно близкую здесь душу. Я хотел подойти к ней, но она вдруг встала и сказала, ни к кому не обращаясь, что должна проведать подругу. Мне подумалось, что это предлог для ухода, и я решил уйти вместе с ней. Но я сидел неудобно — на торце стола, противоположном двери. Когда я наконец выбрался, отдавив всем ноги, она исчезла. Но пальто ее осталось на вешалке. Я отворил дверь в общий коридор — дом Нирензее строился как гостиница, — длиннющий мрачный тоннель уходил в слабо подсвеченную из-под дверей темноту.
За спиной вскипело: шум, крики, возня, визг, что-то упало. Я хотел пройти туда и столкнулся с Людой, спешащей на кухню. В руке у нее было махровое полотенце.
— Что там у вас?
— Пашка убивает Бочкова.
Я отметил, что убийцу она назвала по имени, а жертву — своего мужа по фамилии. Я тоже зашел на кухню и взял медный пестик от ступки. Безоружным мне с Артюхиным не справиться.
Но когда я добрался до места происшествия, Артюхина там не оказалось. На полу лежал Бочков, похоже, без сознания, и Люда смачивала ему мокрым полотенцем высокое чело и цыплячью грудь, белевшую из расстегнутой рубашки.
Дело было так. Артюхин вконец оправился от поражения, нанесенного ему Звягинцевым, и вновь попытался овладеть вниманием стола, пренебрегая молниями, которые метал в него жених, или сознательно провоцируя его. Наверное, он был не прочь отыграться на Бочкове. Он произнес тост за Люду влажным от слез голосом, вознося ее до небес, а завершил предупреждением: всякий, кто не оценит ее по достоинству, будет уничтожен. После чего запечатлел долгий, совсем не родственный поцелуй на покорных устах. Хватив духом фужер водки, он цепко оглядел застолье — все ли поддержали тост, и столкнулся с ненавидящим взглядом протрезвевшего Бочкова.
— Пошел вон, жидовская морда! — звенящим голосом сказал Бочков.
Не знаю, был ли Бочков антисемитом, но знаю, что Артюхин не был евреем. Его цыганская чернявость навела взбешенного ревнивца на оскорбление, направленное явно не по адресу. Артюхин мог бы с насмешкой пренебречь им, но он обиделся, как десять хасидов. Отшвырнув кого-то из родственников, он рванулся к Бочкову. Тот горделиво встал, сжимая в руке вилку. Пашка ударил его в грудь, и Бочков послушно, даже не без изящества, словно заранее готовился именно к такому финалу, улегся на пол и смежил вежды.
Я с пестиком в руке пошел искать Пашку и обнаружил его у батареи в конце коридора. Он плакал навзрыд, и мне сразу расхотелось пускать пестик в ход.
— Брось, Пашка. Не расстраивайся. Он пьяный.
— За что меня так? — рыдал Пашка. — Сперва Василий Кириллович ноги вытер… Я же молодой… пусть глупый, но есть у меня самолюбие?.. Теперь этот слизняк. Я крестьянский сын. А он кто? Небось из лавочников. Инженер. Знаешь, какой он инженер? По технике безопасности.
— Какой бы ни был, он Людин муж, и тут свадьба. Неужели тебе Люду не жалко?
— Жалко!.. Ты не представляешь, как жалко. Почему она за меня не вышла? — Он опять заплакал.
Я взял его за плечи и повел в квартиру.
— Бочков вырубился. Его уложат. А с Людой ты помирись.
И тут я увидел в глубине коридора слегка пошатывающуюся фигуру моей любимой.
Я отдал Пашке пестик, попросив вернуть его на кухню, а сам поспешил к Татьяне Алексеевне.
— Что там у вас? — тщательно выговаривая слова, спросила Татьяна Алексеевна.
— Пашка чуть не прикончил Бочкова.
— Жаль.
— Жаль Бочкова?
— Жаль, что не прикончил.
— Да, все расстроены. Он сразу брякнулся, и Пашка не стал бить лежачего.
— Черт с ними со всеми. Сами разберутся. Я туда не пойду.
— Я тоже.
Забрав ее пальто и свой плащ, я взял Татьяну Алексеевну за руку и потащил с таким решительным видом, будто знал куда. Мы чуть не загремели в темноте на какой-то короткой лестнице, мне чудом удалось удержаться на ногах и удержать блаженную и грозную тяжесть моей спутницы. Я прижал ее к стене и стал целовать. Позже она расскажет мне со смехом, как удивился Звягинцев побелке недавнего ремонта у нее на спине. Удивился, но ничего не сказал.
Я начал ее раздевать.
— Не хочу здесь. Отведи меня куда-нибудь.
Моему отуманенному водкой и любовью мозгу представилось, что самое укромное и подходящее для ласк место — это Тверской бульвар.
Как странно, я помню, сколько было пуговиц на грации, этих мягких латах Татьяны Алексеевны, когда я раздевал её на бульварной скамейке (их было шестнадцать), но не помню, шла ли еще война или уже кончилась. Непонятная история произошла с этой войной. Начавшись трагически и поэтично, она вскоре испортилась и завоняла. Первую мировую войну делали военные, во всяком случае, так это выглядело в глазах широкой публики. Блистали имена Жоффра, Петена, Фоша, Людендорфа, Франсуа, Брусилова, Рузского, стратегия шла на стратегию, мужество осажденных крепостей спорило с яростью штурмов, но не было людоедства, как в Ленинграде, и не строили брустверов из замерзших тел, не сжигали пленных в печах и по мере сил щадили гражданское население. Но в последней мировой чистота военного почерка ощущалась лишь на второстепенном театре — в Африке, где Роммель и Монтгомери изощрялись в боевых тонкостях. Немцы кое-что показали в начале войны: прорыв и окружение, мы же с самого начала действовали навалом. Стратегия наших военачальников сводилась к забиванию немецких стволов русским мясом. Жуков был просто мясником. Рухнула под ударами англо-американских бомбовозов немецкая оборонная промышленность, и немцы сдались. А пока этого не случилось, на авансцене битвы народов кривлялись двое отвратительных, кровавых и пошлых фигляров: Гитлер и Сталин. Им подыгрывали на вторых ролях два прожженных политика: Черчилль и Рузвельт. И все время шел какой-то омерзительный торг на крови, на жизнях тех, кто еще уцелел, делили земли, народы, вели новые пограничные линии по человеческим сердцам, и все гуще валил дым из газовых печей. А потом оказалось, что спор шел не между фашизмом и всем остальным человечеством, а между двумя фашистскими системами. Фашизм был побежден, фашизм победил. Первая мировая породила великую литературу, живопись, музыку, от второй остались лишь дневники девочки Анны Франк и растерзанный металлический человек Цадкина в Роттердаме. Все остальное малозначительно. Пожалуй, итальянский неореализм был явлением, да ведь у кинопродукции мотыльковый срок жизни. Своих лучших и, как оказалось впоследствии, единственных на всю жизнь друзей я потерял в самом начале войны, остальные потери не прибавили мне боли. Общеизвестно, что одна смерть — трагедия, миллион смертей — статистика. Реален лишь отдельный человек, в несмети, тьме, толпе человека нет, а жалеть людскую халву невозможно. Антихудожественность последней войны сказалась в переизбытке ненужных убийств, в тотальном уничтожении и жизни, и созданного руками человека. Еще в первую мировую, в которой был известный шарм, Швейк сказал: «Война — это занятие для маленьких детей». Да, для маленьких, злых, безответственных детей с еще не пробудившейся душой. А вторая мировая была занятием для детей Кафки и Брейгеля — этих осатаневших, кривляющихся на улицах кретинов, которые замешивают прохожих в свои зловещие игры.