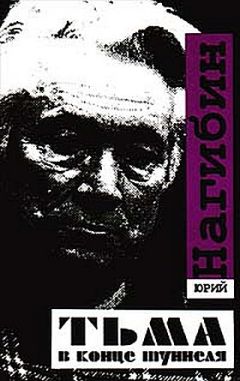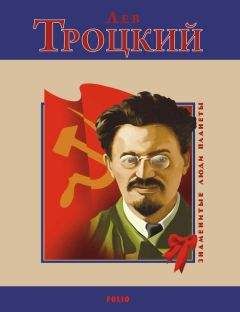Вся эта деланная болтовня появилась из-за того, что я не могу вспомнить, была война или кончилась, а без этого невозможно описать место действия. Если война продолжалась, то тут было очень темно и очень пустынно. Но как же не боялись мы комендантского часа? Если уже настал мир, то горели фонари, по аллеям ходили люди, значит, мы творили любовь посреди гульбища?
То, что мы делали, отличалось воистину олимпийской разнузданностью, когда боги, не стесняясь, творили любовь посреди божественного синклита. Я был равен небожителям бесстыдством, но не удачливостью. Даже когда богиня ускользнула то ли от Марса, то ли от Аполлона, страсть бога излилась в мировое пространство и стала Млечным Путем. Я же не умел реализоваться на периферии заветного грота, куда я никак не мог проникнуть. Скамейка не самое удобное ложе, мешала и одежда, но больше всего мешала, теперь я это знаю, сама возлюбленная. Она делала вроде бы все возможное, чтобы помочь, но то была симуляция помощи, она помогала себе в последний миг ускользнуть.
Мы оба задыхались. Свет — звезд ли, фонарей — молочно высвечивал ее нагое тело в пене почти растерзанных одежд, и это не позволяло мне отступить или хотя бы сделать передышку. Прекрасная и ужасная борьба изнуряла меня, но не обессиливала. Неистово и безнадежно стремился к ней, обманывая себя надеждой, что любимая мне поможет. И она начинала мне помогать: руками, бедрами, изворотами сильного и гибкого при всей полноте тела. Я исполнялся доверия, предоставляя ей встраивать меня в себя. Но средоточие ее наслаждения перемещалось к губам, она билась, словно большая упругая рыба, откидывалась назад, зовя меня за собой полуоткрытым ртом. Оберегая ее ощущения, я тянулся к ее губам, она вцеловывала, втягивала меня внутрь, и тут ее затвердевшие соски предъявляли свои требования. Внимание мое рассеивалось, и вопреки моей вере, что я в надежных руках, меня опять проносило мимо цели.
Я долго относил эти повторяющиеся промахи за счет собственной неумелости, неудобства позы, нашей общей перевозбужденности и только потом понял, что она сознательно не допускала завершения. Как-то в голову не приходило, что моя теща, мать моей жены, была женщиной в расцвете лет и вполне могла еще иметь детей, а это никак не входило в ее намерения. Страх зачатия был сильнее хмеля. Она делала все от нее зависящее, чтобы повторилось чудо творения Млечного Пути, хотя едва ли знала миф о неистовой струе то ли Марса, то ли Аполлона, но я оказался твердокаменным традиционалистом.
— Погоди, — сказала она задушенным голосом. — Ты меня замучил.
— Только ничего не прячьте, — сказал я, боясь, что она начнет застегиваться.
— Да нет же, дурачок! — заверила она с таким видом, будто я сморозил какую-то ребяческую чушь.
В подтексте интонации была уверенность, что голая женщина на центральном московском бульваре — явление вполне естественное. А может, нам казалось, что мы невидимки? Из дали лет все это выглядит нереальным. Но было, было…
— А вы понимаете, что я вас люблю? — сказал я. — По-настоящему люблю.
— Правда? — никогда не видел я таких круглых, таких распахнутых глаз. — Меня давно никто не любил.
— Я вас сразу полюбил. Как увидел. Разве вы этого не знаете?
И тут что-то случилось, чего я в первые мгновения не понял. У нее на лице проступила душа. И какая милая, какая неожиданная душа! Я вдруг увидел ее девочкой — любопытной, застенчивой, благодарной за любую радость, которую может дать жизнь, но согласную и на обман, лишь бы хоть чуть-чуть посветило.
— Холодно, — сказала она. — Можно, я оденусь?
— Погодите, — сказал я и стал целовать ее от глаз и губ к коленям.
Но когда желание опять толкнуло меня на штурм, она сказала:
— Не надо. Здесь все равно не выйдет. Мы найдем место.
— Сейчас?
— Ну, где же сейчас?.. Уже поздно. Наши давно спят. Можно, я оденусь?
Меня растрогало, что она вторично спрашивает моего разрешения, словно у меня есть какие-то права на нее. И еще я понял: после моего признания здесь, на скамейке, уже ничего не будет. Взята слишком высокая нота.
Мы привели себя в порядок. Я помог ей застегнуть грацию. В начале бульвара, совсем недалеко, повернувшись к нам спиной, стоял Пушкин. Наверное, он одобрял нас своей веселой душой. Одевшись, мы снова сели на скамейку.
— А как ты будешь меня звать? — спросила она, и душа покоилась на ее лице, как бы заново его выстроив: рельефнее стали надбровные дуги, чуть глубже глазницы, возвысились скулы, нежнее скруглился подбородок.
— Милая, — ответил я.
— А ты не можешь говорить мне «ты», когда мы вдвоем?
— Если мы будем близкими.
— А мы не близкие? Куда ж ближе.
— Вы сами знаете. Это будет? Она наклонила голову.
Мне пришла неожиданная мысль: не было ли происходящее как бы реставрацией, пусть весьма приблизительной, одного из самых сильных переживаний ее молодости и первой любви? Когда-то, тоже на улице, совсем недалеко отсюда, кое-как пристроившись на цоколе ограды, с прекрасным бесстыдством она отдавалась любимому, и тут грохнул взрыв, унеся десятки жизней, но любимого она спасла и зачала новую жизнь. Сейчас не было ни взрыва, ни зачатия новой жизни, но было лихое бесстыдство и брошен спасательный круг. Она сотворила благо не только мне, но и себе, вернув прошлое, а сквозняк осеннего бульвара, наломанное любовными потугами тело и хмельной дурман удержат состояние оберегающего душу бредца.
Проснувшись утром — Галя уже упорхнула, — я долго валялся в постели, пытаясь понять, что из минувшего вечера и ночи принадлежит яви, а что безумию. То, что я пил, сомнений не вызывало, я был весь проспиртован. Значит, и свадьба была — с хамством Звягинцева, повержением пьяного жениха, слезами Артюхина, нашим с Татьяной Алексеевной бегством. А в стриптиз на Тверском не верилось, слишком похоже на мои больные, горячечные мечтания. Но как телесно все это помнится: жесткая скамейка, голые деревья, стойкий ветряный продув аллеи, теплота явленного тела, его таинственное свечение. Да разве могло такое быть посреди Москвы?..
Я принял холодный душ, кое-как оделся и пошел через площадку. Мне открыла Татьяна Алексеевна.
— Ты чего? — удивилась она. — Галька ушла? Хочешь опохмелиться?
«Не было! — взрыднулось во мне в ответ на эту бытовую интонацию. — Не было бульвара».
— Василий утром на мое пальто косился. Это же надо так извозиться!
Я что-то не мог сообразить, почему у нее испачкано пальто.
— Забыл, как мы на лестнице обжимались?
«Не было! — снова ударило в душу. — Не было бульвара. Была возня на лестнице, вот и все».
Скажи «милая», — попросила она вдруг. — У тебя так смешно выходит: «мивая».
«Было! — взорвалось во мне. — Был бульвар!..»
Луи Селин говорил, что в жизни случаются дни, которые можно и не жить. У меня таким выдалось целое полугодие, я не вылезал из командировок. Жизнь вернулась маем и дачей, вернулась мукой. Она не была так черна и безнадежна, потому что всякий раз казалось: это будет завтра. Но наступало завтра, и я оказывался столь же близок к цели и столь же далек от нее. Татьяна Алексеевна, помолодевшая, оживленная, ласковая, была готова на все — до того предела, который был мне поставлен на бульваре. Этот предел держал меня в постоянном напряжении, я с маниакальным упорством домогался ее. Где бы она ни появлялась: в саду, столовой, гостиной, беседке, на кухне, в ванной, — тут же возникал и я, неотвратимый, как рок, но куда менее опасный. Она меня не только не отталкивала, а поощряла, ее руки сами тянулись ко мне. Она не уставала целоваться, не ставила мне никаких преград, кроме последней. Я бормотал откуда-то известные мне строчки Пастернака, которых никогда не видел в печати:
Тяни, да не слишком,
Не рваться же струне…
— Но здесь нельзя, — говорила она обещающим голосом.
«Здесь» и правда было нельзя: серой мышью сновала взад и вперед по даче, в оскорбленности и бессильной злобе, ее свекровь, скашивала темный зрак неандерталка, и скулы ее рдели, поджимала вишневые губки нянька, но, похоже, она меньше всех была афропирована происходящим, очевидно, в тех домах, где она раньше служила, барыня тоже развлекалась с учителем на фортепьянах, репетитором сына или молодым секретарем мужа. Недоуменно и заинтересованно поглядывал инфант — мы щадили детскую, но ведь ребенок бывает одновременно повсюду, и, ей-ей, он начинал что-то смекать, его испачканная в песке ручонка все чаще тянулась к ширинке красивых штанишек, добытых из клейкой груды последнего доброхотства американских трудящихся.
Однажды я застал Татьяну Алексеевну на редко посещаемой террасе с задней стороны дачи. Чего ее туда занесло? В коротеньком пестром сарафанчике, она рылась в коробке для шитья, надумав поиграть в швею. Сарафанчик не только ничего не скрывал, но с дивным бесстыдством обнажал ее желанное тело. Я прямо взвыл, когда увидел, и впился в золотую швею, словно гигантский клещ. Я заново открывал для себя ее груди, теплую, чуть влажную ложбину между ними, сухие подмышки, гладкий живот, завитки волос щекотно предваряли безумие ляжек, круглые атласные колени, мускулистые икры… Боже, как совершенно построил ты женщину, дивную страну, которую невозможно открыть раз и навсегда, а постичь не хватит всей жизни.