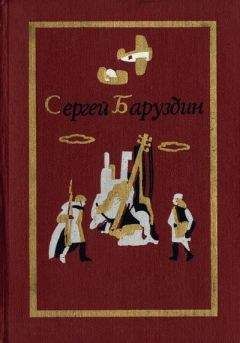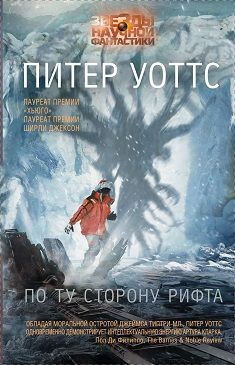запрыгал от радости.
Мотоциклисты рассыпались по дороге. Их задерживали впереди идущие танки и бронетранспортер. Впрочем, уже не идущие. Головной танк сполз на обочину и, ревя, завывая, будто в истерике, крутился на одной гусенице. Два других еле заметно дергались, стараясь обойти первую машину.
На дороге творилось непонятное. Грохотали выстрелы. Надрывно, со скрипом и скрежетом гремел от ударов снарядов металл. Трещали мотоциклы и очереди автоматов. Столб дыма с огнем взметнулся над бронетранспортером. Немцы орал и, отдавая команды, орали, когда рядом рвались гранаты.
— Ниже голову! Ниже! Видишь, по нас садят!
Я слышал эти слова соседа и нагибал голову, но в грохоте и суматохе боя толком не понимал, откуда и кто стреляет по нас.
Тут меня окликнули, как мне показалось, справа. Я обернулся, инстинктивно обернулся не вправо, а назад, и вновь услышал:
— Давай сюда! Только ползком, осторожнее!
— Кого? Меня? — переспросил я.
— Да тебя, тебя! Давай! Осторожнее!
Я схватил винтовку, выскочил из нашего окопчика и обернулся назад к соседу:
— Зовут вроде…
— Ложись, балда! Вот человек! — что было силы закричал красноармеец, и я плюхнулся прямо в какую-то лужу. В ту же минуту рядом свистнули пули. Неужели это в меня?
Я пополз по мокрой земле и возле заднего окопа вспахал ее стволом винтовки. И верно балда! Что бы сразу сообразить! А то вытянулся как памятник!
Перевалившись через бруствер окопа, откуда меня звали, я скатился к ногам того самого старого плановика, с которым утром шел по Ленинградскому шоссе. Он помог мне подняться на корточки и сказал с мягким сожалением:
— Нельзя же так. Рисковать так нельзя. Давай вместе, только осторожно.
Мы поползли еще дальше назад и потом в сторону, к кладбищу.
Кладбище было на самом бугре, и там тоже находились наши. Сейчас я видел их ясно. Несколько бойцов стояли во весь рост на тропинке, прикрытой с двух сторон, словно специально от немцев, естественными холмами с могилами и кустарником.
— Кто звал меня? — спросил я на ходу, пока мы еще не добрались до кладбища.
Старый плановик промолчал. Видно, не расслышал…
Отец лежал на мокрой тропинке, без шапки, в расстегнутой телогрейке, откинув правую руку. Почему руку, когда кровь заливала его живот, — я ничего не понимал в эту минуту.
— Ты? Вот… — сказал он, глядя на меня неестественно большими глазами, и повторил — Вот… И тебе крещение. А мальчишку жалко… Не удалось… Вот какая штука. Страшно… Только головка… В шапке… Без тела… и рот раскрыт. Прямое попадание… Ты что?.. Не волнуйся! Я буду жить. Буду! Только пить мне не давайте. Нельзя!.. — и застонал, сжимая губы.
Рядом со мной стоял командир батальона.
— Что делать? А? — Я схватил его за рукав.
— Ничего, дружок, все будет хорошо. Сейчас принесут носилки и узнаем насчет медсанбата. Если далеко, возьмем у артиллеристов машину. Ты поедешь с отцом.
— А как же там? — Я показал в сторону боя.
— Что значит — там! — вспылил комбат. — Сказал, с отцом поедешь! Понятно, с отцом! И точка.
— Да я не про то…
— А я про то! — резко сказал комбат. И потом уже мягче — Немцев отбили. До утра по крайней мере. Обидно, — вдруг добавил он. — Когда туда бежал, ничего, а тут накрыло…
Мы долго плутали в санитарной машине по окрестным дорогам, но медсанбата так и не нашли. Перевязка, сделанная отцу у кладбища, окончательно промокла, и мне было больно смотреть на него. Отец дышал тяжело, с хрипом и свистом, и от этого становилось совсем не по себе.
— Ты не думай… Я правду тебе говорю… — бормотал он. — Понимаешь, сущую правду… Я буду жить… Буду… А ты мать береги!.. Очень прошу… Ведь я, ты знаешь, виноват перед ней… А ты… Ты молодец… Мальчишку жалко… Мерзавцы… Изверги… По мальчишке из танка… Какая штука…
— Надо что-то делать! Так же нельзя! — Я подбежал к кабине шофера, когда машина забуксовала на развилке проселочных дорог. — Надо врача найти!
Шофер вылез из кабины, глянул в кузов на отца: Может, в Москву махнем? Верней будет…
Вскоре мы выбрались на Ленинградское шоссе. Теперь — скорей, скорей! Только бы скорей добраться до города!
Отца похоронили лишь на пятые сутки. Мог ли я думать, что похоронить человека так трудно? Вдвоем с сослуживцем отца, которого я чудом встретил на улице, мы четыре дня ездили по кладбищам. Четыре дня нас водили за нос и надували, прежде чем мы поняли: ни здравый смысл, ни деньги не спасут положения. Три буханки хлеба, две поллитровки, месячная продовольственная карточка — и все было завершено.
Мы похоронили отца на Немецком кладбище. На Немецком, среди сотен похороненных там людей с немецкими фамилиями, лежал теперь человек с фамилией русской, погибший от осколка немецкой мины. Правда, у этого кладбища есть и другое, не немецкое название: Введенские горы…
Прошло несколько дней. Я окончательно понял: все надежды мои на возвращение в армию рухнули. Наших я не нашел, хотя искал двое суток. В военкомате меня и слушать не хотели. На сборном пункте, откуда уходил наш особый батальон, сказали малоутешительное: батальон здорово потрепан, а оставшиеся бойцы влились в действующую армию. Если бы я не забыл свою винтовку там… Да, тогда все было бы иначе.
Я вернулся в типографию. Вернулся, чтобы не болтаться без дела. Сидеть на шее матери я не мог. Мать, хотя и не работала, сдавала кровь на донорском пункте и получала за это особую карточку и дополнительный паек.
По ночам мы опять дежурили на крыше. Немецкие самолеты по-прежнему ночами рвались к Москве. Они шли на город большими массированными группами по сто, двести, а иногда и триста машин. Их били возле Москвы или, как говорилось в сводках, на ближних подступах к Москве, били и в московском небе. Били, сбивали, отгоняли. Недобитые «юнкерсы» и «хейнкели» сбрасывали бомбы на окраинах города и в дачном Подмосковье. В том самом Подмосковье, где журчали тихие речки, шелестели листвой леса, где каждый год отдыхали люди. За несколько месяцев войны бомбы перепахали эту землю.
В нашей типографии печатались необычные газеты и листовки для оккупированной территории: смоленская — «Рабочий путь», брянская — «Брянский рабочий», калужская, районные газеты. На каждой из них рядом со словами: «Смерть немецким оккупантам!» стоял гриф: «Прочти и передай товарищу».
Удивительное чувство испытывали мы, когда на ротационных машинах печатались эти газеты! Вовсе не такое, когда печатались давно знакомые московские газеты. Это было одно. А тут каждый номер газеты, каждая листовка были особо значимы. Прямо из