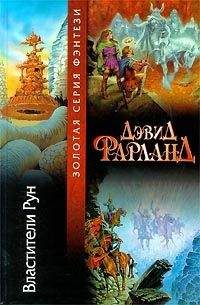- Оттого, что лоб-то у него хорош, он и хочет сделать осмотрительно, и я это в нем уважаю, - проговорил Петр Михайлыч. - А что насчет опасений брата Флегонта, - продолжал он в раздумье и как бы утешая сам себя, - чтоб после худого чего не вышло - это вздор! Калинович человек честный и в Настеньку влюблен.
- Влюблен-то влюблен, - подтвердила Палагея Евграфовна.
Нечто вроде этого, кажется, подумал и въезжавший в это время с кляузного следствия в город толстый становой пристав, старый холостяк и давно известный своей заклятой ненавистью к женскому полу, доходившею до того, что он бранью встречал и бранью провожал даже молодых солдаток, приходивших в стан являть свои паспорты. Поравнявшись с молодыми людьми, он несколько времени смотрел на них и, как бы умилившись своим суровым сердцем, усмехнулся, потер себе нос и вообще придал своему лицу плутоватое выражение, которым как бы говорил: "Езжали-ста и мы на этом коне".
- Ты счастлив сегодня? - проговорила Настенька, когда они уже стали подходить к дому.
- Да, - отвечал Калинович, - и этим счастием я исключительно обязан вашему семейству.
- Отчего же нам? Я думаю, своему таланту, - заметила Настенька.
- Что талант?.. В вашей семье, - продолжал Калинович, - я нашел и родственный прием, и любовь, и, наконец, покровительство в самом важном для меня предприятии. Мне долго не расплатиться с вами!
- Люби меня - вот твоя плата.
- Разлюбить тебя я не могу и не должен, - сказал Калинович, сделав ударение на последнем слове.
- Не должен! - повторила Настенька и задумалась. - Но если это когда-нибудь случится, я этого не перенесу, умру... - прибавила она, и слезы в три ручья потекли по ее щекам.
- О чем же ты плачешь? Этого никогда не может случиться, или...
- Что или?..
- Или я должен переродиться нравственно, - отвечал Калинович.
- Я верю тебе! - проговорила Настенька, крепко сжимая ему руку.
На некоторое время они замолчали.
- Дело в том, - начал Калинович, нахмурив брови, - мне кажется, что твои родные как будто начинают меня не любить и смотреть на меня какими-то подозрительными глазами.
- Да кто же родные? Капитан? - спросила Настенька.
- Я уж не говорю о капитане. Он ненавидит меня давно, и за что - не знаю; но даже отец твой... он скрывает, но я постоянно замечаю в лице его неудовольствие, особенно когда я остаюсь с тобой вдвоем, и, наконец, эта Палагея Евграфовна - и та на меня хмурится.
Настенька вздохнула.
- Они догадываются о наших отношениях, - проговорила она.
- Из чего ж они могут догадываться? Я в отношении тебя, по наружности, только вежлив - и больше ничего.
- Как из чего? Из всего: ты еще как-то осторожнее, но я ужасно как тоскую, когда тебя нет.
- Зачем же ты это делаешь?
- Ах, какой ты странный! Зачем? Что ж мне делать, если я не могу скрыть? Да и что скрывать? Все уж знают. Дядя на днях говорил отцу, чтоб не принимать тебя.
Калинович еще более нахмурился.
- Капитан этот такая дрянь, что ужас! - проговорил он.
- Нет, он очень добрый: он не все еще говорит, что знает, - возразила Настенька и вздохнула. - Но что досаднее мне всего, - продолжала она, - это его предубеждение против тебя: он как будто бы уверен, что ты меня обманешь.
- Как он хорошо меня знает! - проговорил Калинович с усмешкою.
- Он решительно тебя не понимает; да как же можно от него этого и требовать? - отвечала Настенька.
В такого рода разговорах все возвратились домой. Капитан уж их дожидался.
- Вы, я слышал, братец, в монастыре изволили молиться? - спросил он Петра Михайлыча.
- Да, сударь капитан, в монастыре были, - отвечал тот. - Яков Васильич благодарственный молебен ходил служить угоднику. Его сочинение напечатано с большим успехом, и мы сегодня как бы вроде того: победу торжествуем! Как бы этак по-вашему, по-военному, крепость взяли: у вас слава - и у нас слава!
- Да-с... конечно... - подтвердил капитан.
- Однако, Петр Михайлыч, я непременно желаю выпить шампанского, сказал Калинович.
- Шампанского-то?.. - проговорил старик. - Грех бы, сударь, разве для вашей радости и говенье нарушить?
- Я думаю, об этом всего лучше обратиться к вам, почтеннейшая Палагея Евграфовна, - отнесся Калинович к экономке, приготовлявшей на столе чайный прибор.
- К ней, к ней! - подтвердил Петр Михайлыч. - Добудь нам, командирша, бутылочку шампанского.
Калинович подал Палагее Евграфовне деньги и при этом случае пожал ей с улыбкою руку. Он никогда еще не был столько любезен с старою девицею, так что она даже покраснела.
- Да уж и об ужине кстати похлопочи, знаешь, этак кое-чего копчененького, - присовокупил Петр Михайлыч.
- Найдем что-нибудь, - отвечала Палагея Евграфовна и пошла хлопотать.
Сначала она нацарапала на лоскутке бумажки страшными каракульками: "путыку шимпанзскова", а потом принялась будить спавшего на полатях Терку, которого Петр Михайлыч, по выключке его из службы, взял к себе почти Христа ради, потому что инвалид ничего не делал, лежал упорно или на печи, или на полатях и воды даже не хотел подсобить принести кухарке, как та ни бранила его. В этот раз Палагее Евграфовне тоже немалого стоило труда растолкать Терку, а потом втолковать ему, в чем дело.
- Да ведь заперто, - отозвался инвалид.
- Руки-то есть, старый хрен: стукнись. Пошел, пошел скорей! Выспишься еще; ночь-то длинна, - говорила Палагея Евграфовна.
- Ну да, выспишься, - пробормотал Терка и долго еще обувался и напяливал свой вицмундиришко.
- Пес этакой! Пойдешь ты али нет? - воскликнула, наконец, Палагея Евграфовна.
- Ну! - отвечал на это Терка и, захватив крепко в руку записочку, поплелся, а Палагея Евграфовна велела кухарке разложить таган и сама принялась стряпать.
Терка чрез полчаса возвратился с одной только запиской в руках.
- Нет, не достучишься! - сказал он и преспокойно разделся и влез на полати.
Палагея Евграфовна только плюнула.
- Вот старого дармоеда держат ведь тоже! - проговорила она и, делать нечего, накинувшись своим старым салопом, побежала сама и достучалась. Часам к одиннадцати был готов ужин. Вместо кое-чего оказалось к нему приготовленными, маринованная щука, свежепросольная белужина под белым соусом, сушеный лещ, поджаренные копченые селедки, и все это было расставлено в чрезвычайном порядке на большом круглом столе.
- Палагея Евграфовна приготовила нам решительно римский ужин, - сказал Калинович, желая еще раз сказать любезность экономке; и когда стали садиться за стол, непременно потребовал, чтоб она тоже села и не вскакивала. Вообще он был в очень хорошем расположении духа.
Перед лещом Петр Михайлыч, налив всем бокалы и произнеся торжественным тоном: "За здоровье нашего молодого, даровитого автора!" - выпил залпом. Настенька, сидевшая рядом с Калиновичем, взяла его руку, пожала и выпила тоже целый бокал. Капитан отпил половину, Палагея Евграфовна только прихлебнула. Петр Михайлыч заметил это и заставил их докончить. Капитан дохлебнул молча и разом; Палагея Евграфовна с расстановкой, говоря: "Ой будет, голова заболит", но допила.
- Позвольте и мне предложить мой тост, - сказал Калинович, вставая и наливая снова всем шампанского. - Здоровье одного из лучших знатоков русской литературы и первого моего литературного покровителя, - продолжал он, протягивая бокал к Петру Михайлычу, и они чокнулись. - Здоровье моего маленького друга! - обратился Калинович к Настеньке и поцеловал у ней руку.
Он в шутку часто при всех называл Настеньку своим маленьким другом.
- Здоровье храброго капитана, - присовокупил он, кланяясь Флегонту Михайлычу, - и ваше! - отнесся он к Палагее Евграфовне.
- Ура! - заключил Петр Михайлыч.
Все выпили.
- Капитан! - обратился Петр Михайлыч к брату. - Протяните вашу воинственную руку нашему литератору: Аполлон и Марс должны жить в дружелюбии. Яков Васильич, чокнитесь с ним.
- Очень рад, - отвечал Калинович и, проворно налив себе и капитану шампанского, чокнулся с ним и потом, взяв его за руку, крепко сжал ее. Капитан, впрочем, не ответил ему тем же.
- Да прекратятся между вами все недоразумения, да будет между вами на будущее время мир и согласие! - произнес Петр Михайлыч.
- Надеюсь, что со временем, когда Флегонт Михайлыч узнает меня лучше, переменит свое мнение обо мне, - сказал Калинович.
- Я сам тоже надеюсь: вы человек образованный... - проговорил капитан, взглянув вскользь на Настеньку.
Калинович вместо ответа еще раз сжал руку капитану.
Таким образом кончился этот маленький банкет, на котором так много и так искренно сочувствовали и радовались успеху Калиновича.
"Родятся же на свете такие добрые и хорошие люди!" - думал он, возвращаясь в раздумье на свою квартиру.
Покуда происходили такого рода знаменательные происшествия в моем маленьком мирку, в доме генеральши следовали одна за другой неприятности. Первоначально с ней сделался, бог уж знает отчего, удар, который хотя и миновался без особенно важных последствий, но имел некоторое влияние на ее умственные способности. Исправница, успевшая окончательно втереться к ним в дом, рассказывала, что m-lle Полина была в совершенном отчаянии. Любя мать, она в душе страдала больше, нежели сама больная, тем более, что, как она ни уговаривала, как ни умоляла ее ехать в Москву или хотя бы в губернский город пользоваться - та и слышать не хотела. "После болезни скупость ее, прибавляла исправница по секрету, - еще больше увеличилась". А между тем на второй неделе поста старушку постигла еще новая неприятность. Медиокритский, остававшийся ее поверенным, потеряв место, недели две безвыходно пил в известном трактире. Генеральша, не зная этого, доверила ему, как и прежде часто случалось, получить с почты тысячу рублей серебром. Тот получил - и с тех пор более не являлся, скрылся даже из города неизвестно куда. Можете судить, какое впечатление произвела эта дерзость и потеря такой значительной суммы на больную! С ней опять сделалось что-то вроде параличного припадка, так что никаких сил более недоставало у m-lle Полины. Она написала коротенькую, но раздушенную записочку к князю Ивану и отправила потихоньку с нарочным. Тот на другой же день приехал. Генеральша, никак не ожидавшая князя, очень ему обрадовалась. В какие-нибудь четверть часа он так ее разговорил, успокоил, что она захотела перебраться из спальни в гостиную, а князь между тем отправился повидаться кой с кем из своих знакомых.