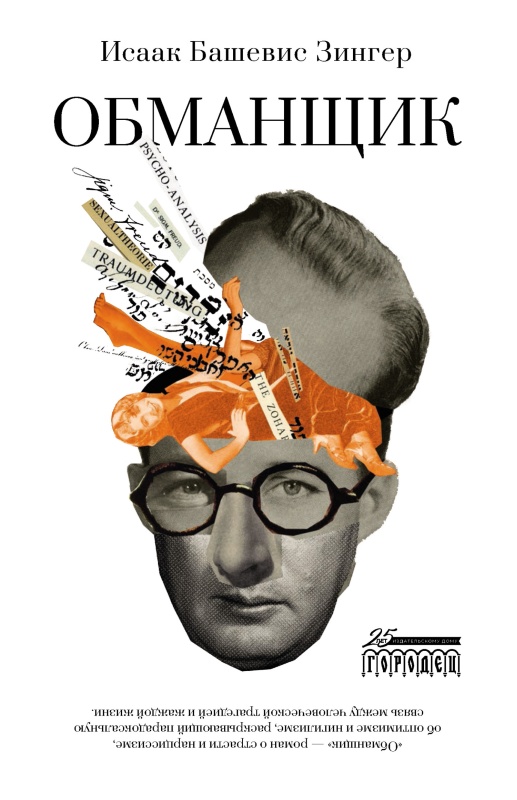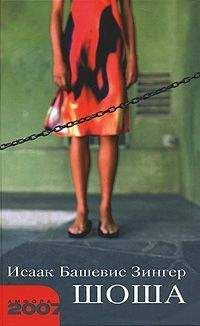был рассержен или переживал трагедию.
– Герц, мне надо кое-что с тобой обсудить! – сказал Моррис Калишер.
– В такую рань? Ладно, давай. Выкладывай.
– Это не телефонный разговор. Может, я зайду? Я тебя разбудил?
– Нет. Я был на кухне.
– Ладно, о’кей. Дело важное. Знаешь что? Давай где-нибудь встретимся. Вместе позавтракаем… если я вообще смогу хоть что-то проглотить. Может, кофе выпью…
– Что стряслось? Что-то с детьми?
– Нет, не с детьми.
– Бизнес?
– Тебе прямо сейчас надо знать.
– Где встретимся?
Моррис сказал Герцу адрес и велел взять такси за его счет. Герц Минскер ожил. Побрился, принял ванну и быстро оделся.
«Ну вот, опять неудачное утро!» – сказал он себе. По обыкновению, он возлагал на утро большие надежды. Вдруг напишет что-нибудь хорошее или внесет полезное исправление. Но все всегда кончалось ничем. Впрочем, в глубине души он был рад выйти из дому. А вдобавок любил ездить на такси.
Перед уходом он заглянул в гостиную и в шутку обронил:
– Auf Wiedersehen [16], духи!
Беспокоило Минскера только одно – в такую рань почту еще не принесли. Он постоянно ожидал какого-нибудь важного письма, которое изменит его жизнь. «Ладно, письмо никуда не убежит!» – утешил он себя. Надел светлый костюм и соломенную шляпу. Купил на улице свежую газету и быстро подозвал такси.
Уборочные машины уже успели хорошенько промыть улицы. Теплый ветерок задувал влагу в открытое окно такси, солнце палило.
«Н-да, природа делает свое дело, – то ли подумал, то ли проворчал Минскер. – А вдруг бы она забыла вращать Землю! Ведь уже миллиарды лет без остановки вращает планету вокруг Солнца. В этом должна быть некая цель, в конце-то концов».
Воздух пах асфальтом, фруктами, бензином и чем-то еще, сладким и летним.
«Что, если б у меня сейчас был, к примеру, миллион долларов? – думал Минскер. – Встречу с Моррисом я бы не отменил, но не дал бы ему платить за такси. Что бы еще я сделал? Остался в Нью-Йорке или куда-нибудь уехал? Куда, например? В Калифорнию? А что я забыл в Калифорнии? Чем там лучше, нежели здесь? Я мог бы сделать только одно: сесть и спокойно работать. С другой стороны, сейчас-то кто мне мешает?»
Минскер бросил взгляд в газету. Война, война… Пока он сидел в такси, падали бомбы и умирали люди, любившие жизнь не меньше, чем он, причем люди молодые. Внезапно он ощутил ужас войны. «Как же допустили такое? Броня права – они истребят нас всех. А что сделает Бог? Заберет души на небеса? Отправит Гитлера на дыбу? Разве Он не мог устроить Вселенную как-то иначе?»
Такси остановилось перед рестораном на Бродвее. Минскер вышел и тотчас увидел у входа Морриса. Тот казался шире, старше, растрепаннее.
– Они откроют только к ланчу! – воскликнул он, кивнув на ресторан.
– Тогда пойдем куда-нибудь еще.
– Конечно.
Моррис Калишер и Герц Минскер зашли в кафетерий. Моррис заказал лишь чай с лимоном, поскольку заведение было некошерное, но Герц не делал проблемы из некошерной еды. Они сели у окна. Народу в кафетерии было мало. Герц взял половинку грейпфрута, кусок яблочного пирога и чашку кофе.
Моррис закурил сигару.
– Что стряслось? – спросил Герц.
Секунду-другую Моррис Калишер пыхтел сигарой, потом отложил ее в пепельницу.
– Герц, плохо дело! Ох, Герц, отвернувшись от Торы, евреи утратили все – свое еврейство, человечность. Мы хуже цыган. Не следовало бы так говорить, но насчет современных евреев наши враги правы. Все, что они говорят, чистая правда.
Минскер обомлел. Он никак не ожидал от Морриса Калишера подобных речей. Моррис словно высказывал его, Минскера, мысли. «Не иначе как партнеры его надули», – подумал он, а вслух сказал:
– В конечном счете это недуг времени.
– А что хорошего в недуге? Я говорю не о тебе, но о тех, кто, подобно мне, попирает религию: «Он знает Господа и готов восстать против Него».
– Чего ты требуешь от себя? Ты же как-никак ортодокс.
– Дурень я, а не ортодокс. Настоящий еврей не бреет бороду и не женится на потаскушке, которая в какой только грязи не побывала. Моя ортодоксальность гроша ломаного не стоит. К тому же я лицемер, вот кто. Зачем я пекусь о бизнесе, о домах и прочей ерунде? Зачем открываю фабрику в этаких обстоятельствах? За каким чертом мне понадобилась фабрика? Я старик, слабоумный старик. Вырастил детей, которые хуже выкрестов. Фаня – антисемитка, ненавидит евреев. Говорит такие вещи, каких впору ожидать от Геббельса, такова горькая правда. Кто знает, как она живет сейчас? Не благоприлично, это уж точно. Я постоянно боюсь, что она не выйдет за еврея, но чем лучше, что она с ними спит? Ох, горе нам и нашим детям. Мы воспитали убийц и блудниц – вот такова правда. Минна тоже блудница, кусок дерьма. Ест, утирает рот и говорит: «Я не грешила». Я распутник, изменник, враг Израиля, вот кто я!
И Моррис Калишер не то кашлянул, не то хрюкнул.
Герц побледнел.
– Почему ты так говоришь о Минне? – спросил он дрожащим голосом.
– Ее бывший муж здесь… как его, этого афериста… Крымский? Она опять с ним! Спит с ним! Их обоих до́лжно растоптать, будь стерто его имя!
– Откуда ты знаешь? Откуда? Зачем ей затевать роман с бывшим мужем?
– А почему нет? «Что сын может сделать, дабы избежать греха?» Что удержит обоих? Раз нет Бога и нет законов – все дозволено. Они рассуждают о фашизме, о гитлеризме. А фактически сами тоже сплошь нацисты, нынешние евреи. Когда отворачиваешься от Бога, ты нацист, и больше никто. Это не просто риторика или преувеличение. Они велеречивы, но готовы обманывать или уничтожать ради ничтожного чувства. Вообще-то она порвала с ним в Париже, ведь грешники не способны жить вместе. Она говорила про него такие вещи, от которых волосы дыбом встают. А он, наверно, мог бы сказать то же самое про нее. Сейчас он здесь, и совсем новый – так почему бы нет? Эти люди круглые сутки болтают о любви, но знать не знают смысла этого слова. Только добропорядочный еврей умеет любить. Они же умеют совокупляться, и все!
Моррис Калишер схватил солонку и так ударил ею по столу, что народ в кафетерии испуганно обернулся.
– Что ты творишь? У тебя есть веские доказательства или это лишь подозрения?
– Есть у меня доказательства. Я не просто языком болтаю.
– Какие же у тебя доказательства?
– Сейчас расскажу, сейчас, дай только дух перевести, – сказал Моррис Калишер. – Я всю ночь не спал. Что я пережил