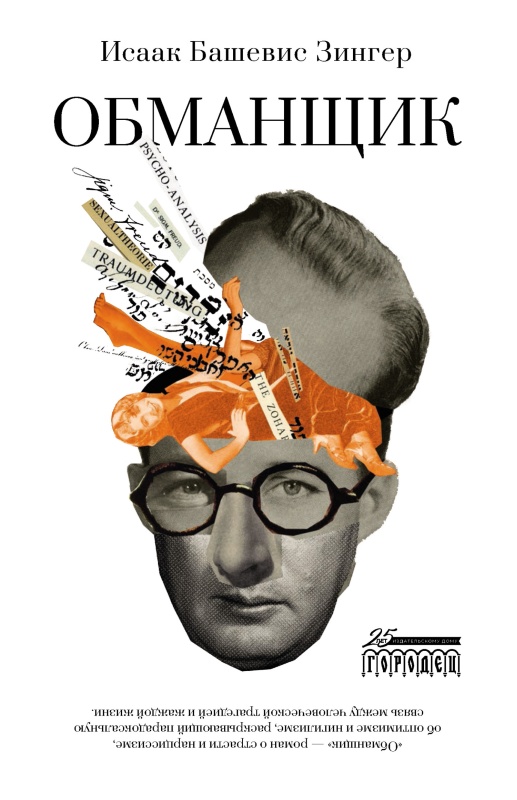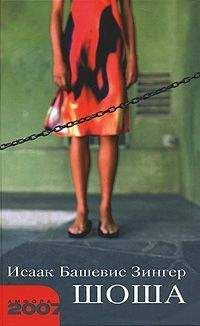нынешней ночью, даже говорить не стану. То, что со мной не случилось сердечного приступа, означает, что я крепче железа. Возможно, для тебя это пустяк, но для меня – подлинная катастрофа. Я к этому не привык. Я по-прежнему верю, что жена должна быть преданной мужу.
– Откуда тебе известно, что она спит с ним? – хриплым голосом спросил Минскер. Внутри у него все переворачивалось, в горле пересохло. Странным образом его тоже обуревали негодование и стыд. Если это правда, то Минскер тоже обманут. Эта возможность напугала его. Стало быть, она могла все рассказать Моррису. «Вот, значит, какова она! – размышлял он. – Моррис прав… мы нацисты… обрезанные нацисты… нет на свете второго такого мерзавца, как я».
Он сидел хмурый, пристыженный, потрясенный собственной аморальностью. Накатила тошнота, и он достал из кармана носовой платок.
Моррис уставился на него во все глаза. На секунду в них всплеснулся смех.
– Откуда у тебя такой платок? – спросил он.
Минскер обомлел:
– Что?
– Он не американский.
– В Париже купил. А что? Тебе не нравится?
И Минскер скривился, как бы говоря: у тебя что, других забот нет?
– Он у тебя один такой? – спросил Моррис.
– Была целая дюжина, но несколько штук я потерял. Если тебе нравится, могу подарить. Тебе по душе красная каемка?
– Да, красная каемка.
– Ну… так какие же у тебя доказательства против нее? – спросил Минскер.
Моррис Калишер не ответил. Сидел молча, словно подозрения и гнев вдруг оставили его. Он смотрел не прямо на Герца, а как бы сквозь него, на скверный мураль, изображающий фрукты, лошадей и повозки, – обычная безвкусная мазня, какой украшают стены дешевых ресторанов и кафетериев. Казалось, Моррис Калишер внезапно погрузился в размышления, не имеющие ни малейшего касательства к проблеме, которая свела их вместе.
Минскер в ожидании с любопытством смотрел на него. Обычно он понимал любое выражение Моррисова лица. И часто еще прежде, чем тот открывал рот, знал, что́ он скажет. Но на сей раз лицо Морриса казалось совсем чужим. Один глаз усмехался, другой словно окоченел.
Моррис взял сигару, стряхнул пепел, поднес ее к губам, но вдруг словно бы передумал и опять положил в пепельницу. Схватил стакан с чаем, однако ж пить не стал, просто согрел руку.
Минскера тошнило, как всегда, когда он нервничал. Похоже, Минна обманывала по всем фронтам.
– Все мужчины – лжецы.
– И что?
Моррис совсем повесил голову.
– Ты так и не сказал мне, какие у тебя доказательства, – заметил Минскер.
– Не все ли равно? В данный момент у меня нет ничего – ни друга, ни жены, ни детей… все вдруг пошло прахом. Прости, что вытащил тебя из дому, Герц. Хотел поговорить с тобой, но теперь не вижу смысла. Пей свой кофе.
– Ты мне больше не доверяешь? – сказал Минскер и тотчас устыдился своих слов.
– Доверяю. Кому мне тогда доверять? В конце концов, ты мой друг, мой приятель. Если б я не мог доверять тебе, то кому мог бы доверять? Но порой необходимо молчать. «Всему свое время, время говорить, и время молчать».
– Как хочешь. Я думал, что сумею тебе помочь.
– Нет, не сумеешь. Как ты мне поможешь, если не можешь помочь себе самому? Мне сейчас нужен кто-то вроде твоего отца, да почиет он с миром. Ты его сын, это правда, но ты не он… отнюдь не он…
– Ничего нового ты не сказал.
– Не обижайся, Герц, но сейчас я попрощаюсь. Дам тебе денег, заплатишь по чеку.
– У меня есть деньги.
– Сколько у тебя есть? Нет, нету у тебя денег, нету. Ты слишком много времени тратишь на женщин, а на этом денег не заработаешь. Зачем тебе столько женщин? Всему должен быть предел.
И Моррис Калишер усмехнулся, совершенно необычным для него образом – полунасмешливо, полуотечески.
Минскер почуял в тоне Морриса Калишера презрение. Но как это возможно? Всего минутой раньше он говорил совершенно иначе. И мгновенно переменился. «Загадка, загадка!» – сказал себе Минскер. Меж ними словно вдруг захлопнулась дверь. Они сидели рядом, но как бы разделенные стеной.
Моррис достал бумажник.
– Несколько долларов тебе, поди, пригодятся?
– Нет, Моррис, спасибо.
– Бери, бери! Пока даю. Не то опоздаешь. Есть такая поговорка: дают – бери.
«Он чертовски зол на меня», – решил Минскер. Никогда раньше он не слышал, чтобы Моррис говорил вот так.
– Нет, Моррис, деньги мне не нужны.
– Может быть, но все равно пригодятся. Женщины вряд ли тебе платят. Или, может, платят?
Минскер покачал головой:
– Отчего ты вымещаешь на мне свою злость? Мне тоже не очень-то весело.
– Ты-то здесь при чем? Она моя жена, а не твоя. И наставила мне рога, как говорят умники.
– Если она грешница, ты никакой не рогоносец.
– По твоим меркам, как раз рогоносец. Тот, кто творит зло, всегда прав, а жертва – дура.
– Это не мои мерки, Моррис.
– Я не имею в виду лично твои. Они и мои тоже. Мы с тобой в одной категории, пусть даже я тут малость отстал. Я просто дурак. Хотел быть таким, как ты, но не смог. У тебя голова куда лучше, и женщинам ты нравишься. А я никому не нравлюсь. Но почему, собственно говоря? Я вправду такой урод? Или, может, у меня пахнет изо рта? Скажи мне правду.
– Для меня ты вовсе не урод, и я никогда не замечал, чтобы у тебя пахло изо рта. От тебя пахнет сигарами, но женщинам это обычно нравится.
– Не нравятся им мои сигары, Минна говорит, они воняют.
– Если твои подозрения справедливы, то воняет как раз от нее.
– В том-то и беда. Каждый чует только чужую вонь. Будь здоров, Герц. Вот двадцать долларов.
– Я их не возьму. Что с тобой такое? Куда ты собрался?
– Никуда я не собрался. Куда мне идти? Гитлер весь мир перекрыл.
– Раз уж ты начал рассказывать, то не должен оставлять меня в неведении.
– Меня самого держали в неведении. Давай вместе покаемся, Герц. Мы оба уже немолоды. Скоро нас призовут к ответу.
И Моррис Калишер поспешил к выходу. Лишь после его ухода Герц Минскер сообразил, что он оставил на столе двадцатидолларовую купюру.
Моррис шел, сам не зная куда – в центр, из центра, на восток или на запад. Перед глазами что-то мельтешило, дрожало, воздушный пузырек, который словно пульсировал. Будто жмешь пальцами на веки – и цвета меняются, вспыхивают искрами.
«Вот, значит, как оно бывает!» – говорил он себе. Повторял снова и снова. Сперва его терзала боль. Теперь же