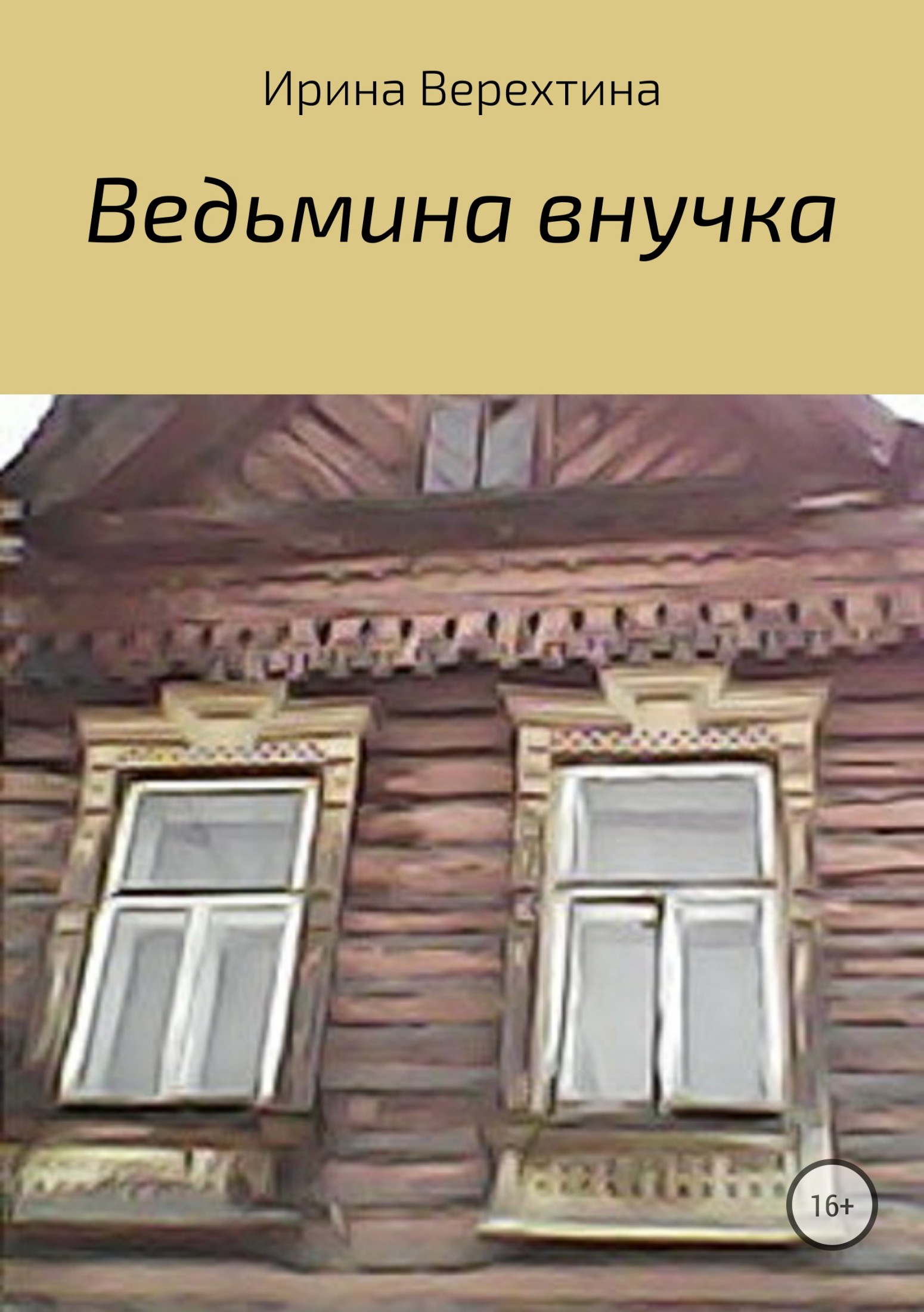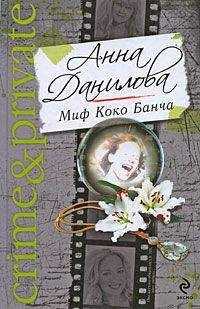им друг от друга не деться – они уже не смогут порознь: пробовали уже, и у них не получилось. И поняв это, хохочут-заливаются, уткнувшись друг в друга лбами, как два упрямых барана.
– Ва (послушайте), люди! На ком я женился? Брал малейк (ангелочек), получил шейтан! Чапильги (пироги с брынзой) печь не умеет, говорит, сам пеки. Я за неё должен печь, ва!
Рита отворачивается, пряча от мужа улыбку, которую она уже не в силах сдерживать. Майрбек сильными руками берет её за плечи, бесцеремонно разворачивает и, не в силах больше сдерживаться, целует в улыбающиеся губы, отмечая попутно, какие они прохладные, шелковисто–нежные, пахнущие лесной земляникой. «Малейк мой, ангел мой… Остопарлах (ингушск.: возглас удивления у мужчин), на ком я женился!» – И слышал в ответ нежное: «Сам выбирал, смотреть надо было».
Риту никто не встретил… Николай и Галина, её двоюродные дядя и тётя, не знают, что она приехала. А зачем им знать? Она ведь не к ним приехала.
На Антонидиной калитке красовался новенький блестящий замок – не войдёшь. Но был ещё лаз в штакетнике, о котором теперешние хозяева дома не знали, иначе бы покрепче прибили две висящие на одном гвозде штакетины. Это был её секретный лаз. С торжествующей улыбкой Рита раздвинула доски и пролезла во двор. И долго сидела на крыльце знакомого до последнего брёвнышка дома, который уже не принадлежат бабе Тоне, и Риту здесь никто не ждал. Заходящее солнце лежало на ступенях золотой дорожкой, доски были тёплыми, и от этого Рите стало вдруг хорошо и уютно, словно Антонида сидела с ней рядом и согревала её своим теплом.
– Бабы Тонина душа прилетела! – подумала неверующая Рита, поверив безоглядно и сразу – в то, что после смерти остаётся душа, и где-то во Вселенной существует Тот Свет, и Господь Бог. Значит, и бабушка Тоня где-то есть. Существует…
– Ба, где же ты теперь? – тихо спросила Рита. – Как же ты без дома?.. Или тебе не нужен дом, у тебя есть другой? А этот? А я?
В дом войти не получилось – на двери висел замок. Антонида никогда не вешала, даже когда отлучалась, даже когда уезжала!
– Здравствуй, – сказала Рита дому, погладила тёплые доски крыльца и, не выдержав, прижалась к ним щекой. – Знаешь, они меня даже на похороны не позвали, через месяц только написали, – всхлипнула Рита. – Испугались, что я с мужем приеду, не любят они его, и меня не любят… Я бабушке привет от тебя передам, скажу, что ты её помнишь, что у тебя всё хорошо. Забор нарядный, окошки занавешены, чтоб не заглядывал никто, замок вот – новенький…
Рита вытерла глаза и, не разрешив себе слёзы, тем же путём – через лаз в дальнем конце забора – выбралась наружу и отправилась к Таньке Красновой, с которой дружила с детских лет. Танька жила в большой избе–пятистенке, комнат было тоже пять, и ещё две в мансарде, на втором этаже, и веранды тоже две. И качели во дворе – высоченные! На двух врытых в землю столбах с перекладиной. Танькин дед ставил.
Они с Танькой качались по очереди, считая до ста и изо всех сил раскачивая друг дружку – сто качков Танька, сто качков Рита, сто – Танька, сто – Рита… И не надоедало! Так сладко было взлетать на этих необыкновенных качелях в небо, становясь там, наверху, невесомой и бестелесной… И обмирая от восторженного ужаса, на огромной волне качельного размаха нырять вниз, в тёмную глубину двора…
Рита толкнула знакомую калитку, присела на качели, качнулась тихонько – и качели скрипнули в ответ, здороваясь.
– Кто тут? Ритка, ты?! Мама! Ритуля моя приехала!! Риточка! – Танька стиснула подругу в объятиях, звонко расцеловала в мокрые щёки. – Рит, ты плачешь, что ли? Ты чего, Риточка?
– Это я от радости, – соврала Рита.
У Красновых Риту встретили приветливо, Танькина мать шустро накрывала на стол, улыбалась:
– К пирогам приехала, как знала! Тесто подошло, сейчас печь буду. Вы, девки, картохами-от не наедайтеся, место на пироги оставьте.
…Потом они долго пили чай (настоящий, из самовара на углях!) с горячими пирогами и привезёнными Ритой московскими конфетами и тульскими пряниками, которые так любила Танька, и Рита всегда ей привозила…
– Бери, бери, не стесняйся. Господи ты боже мой! Тебя дома не кормят что ли, ведь глянуть не на что! (Рита подавилась пирогом от «комплимента», но промолчала) Вот ещё этих спробуй! – Танькина мать подсовывала Рите пахучие, жаром пышущие пироги и быстрой красновской скороговоркой (которую никто в деревне не понимал, обрывая на полуслове: «Не тарахти, чай не пожар, нормально говори») перечисляла деревенские новости…
– Как Антонида-то померла, царство ей небесное… Энти-то, наследнички-то, не успели мать похоронить, взялись дом делить. Сорок дней не обождали, как положено по-христиански… Неймётся им, – рассказывала словоохотливая Танькина мать, которую Танька в особо патетических местах дёргала под скатертью за подол.
– Да не дёрьгай ты, не дёрьгай! Я ить правду говорю. Ну, на похоронах-то попритихли оне, а как дом-от делить начали, разругались в дым… Да не дёрьгай ты меня!
Ох и ругались, ох и базланили! На всю дерёвню лаялись, чтоб, значит, все слышали. Колька с Галькой удвох супротив Женьки. Завсегда не ладили с ней. Да не на ту нарвались. Женька-та насмерть билась, с Колькой в драку полезла, рожу ему расцарапала. Совести нет! Сама-то в городе, в хоромах живёт, в деньгах купается, наворовала…
Да не дёрьгай! Порвёшь-от юбку на мне… Полезла она, значица, с Колькой драться, разодрала рожу в кровь. Колька в долгу не остался, насовал ей. Женька как волчиха выла – на всю дерёвню. Рассобачились в клочья, дом разделили да уехали. Глаз теперь не кажут. Стыдно, видать. И тебя не встренули, племяшку сродную… И могилка Тонькина не сказали где? Так и не знашь?
Рита помотала головой, кусая губы и стараясь не плакать. Майрбек бы её похвалил, сказал бы – держится как надо.
– Ай, неладно-то как, нехорошо как вышло… – токовала тётка Надя, Танькина мать, войдя во вкус.
– Да нормально всё, – остановила её Рита, которой надоело слушать эти причитания. – Они не знают, что я приехала, я не звонила, не говорила никому. Думала, дома кто есть, а их нет никого, и замки висят, у бабушки никогда не висели…
Голос предательски задрожал, Рита не удержалась, всхлипнула, закрыла ладонью рот и глубоко подышала, останавливая, задавливая в себе эти никому