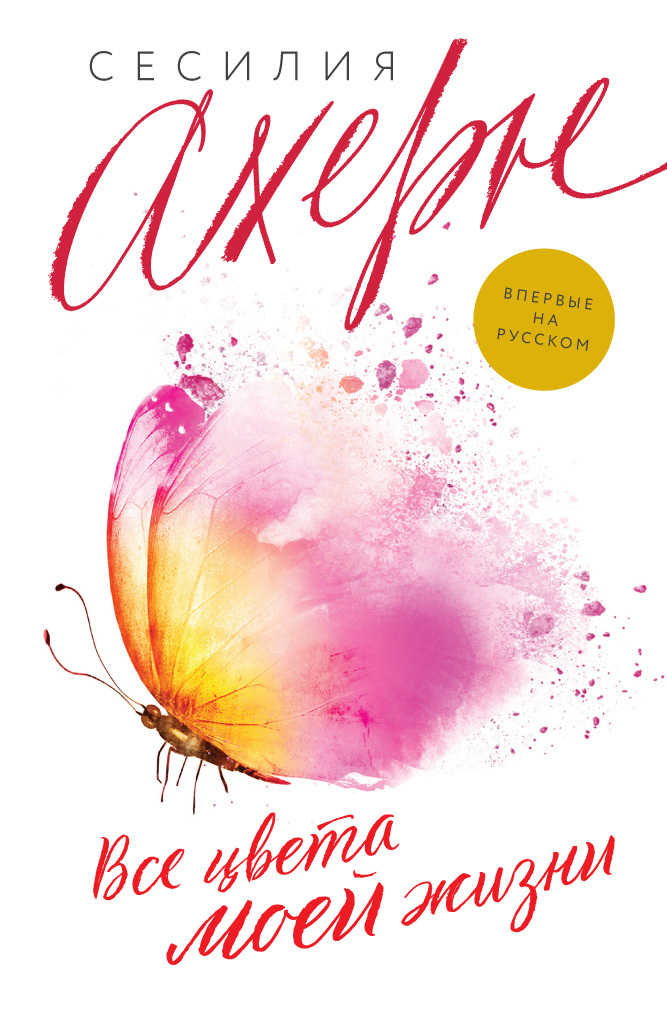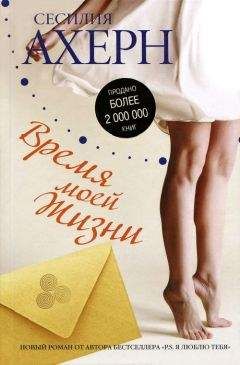лиственный мусор, сажают новые породы на месте ясеня. Он благодарит меня за то, что я заметила болезнь деревьев, и удивляется: как это у меня получилось так рано, еще до профессионалов? К письму в знак самой искренней признательности он прикладывает карту члена клуба Ормсби-Истейт и Прайвет-Гарден, по которой можно пять лет бесплатно ходить в эти парки. От благодарных деревьев, как он выражается.
Зеленые растения в горшках занимают все подоконники в доме. Я не убила ни одного. Вера живет себе и живет, смотрит, как разрастается эта империя, как я потихоньку совершенствуюсь в искусстве ухода за своим садиком на заднем дворе.
– Как в джунглях живем, – не раз слышу я от Лили.
Она никогда не забывает дней рождения. Несмотря на все, что она вытворяла в эти годы, на периоды мрачного настроения, исчезновения, она всегда помнила наши дни рождения. Обычно она отделывалась открыткой со вложенной пятеркой. Но в день, когда мне исполняется двадцать четыре года, она меня удивляет.
Когда я схожу вниз, она, уже умытая и прибранная, сидит в своем кресле-каталке, нараспашку открыв входную дверь.
– Ты чего? Ну и холодина здесь! – говорю я.
– Иэна жду. Он уже час как должен приехать, – отвечает она, кипя от гнева.
– Ты куда-то собираешься?
Я бросаю взгляд на кухонный стол: нет конверта, который обычно предназначается для виновника торжества. Я думаю, что она и правда позабыла о моем дне рождения, и напоминаю себе, что уже слишком взрослая, чтобы такое меня волновало.
– Нет. А, вот и он!
Дядя Иэн останавливает перед домом свой минивэн.
– Опаздываешь, как всегда! – кричит она ему, пока он суетливо выбирается из машины.
– Извини, извини, – отвечает он. – Куда их девать? Здесь оставить?
– Нет, заноси.
– Домой?
– Да, чего стоишь? Я же сказала тебе – в восемь.
– Лили, машин на улицах – жуть просто! – отвечает он, открывая задние дверцы минивэна. Он идет к нам с ящиком цветов, замечает меня и говорит:
– Привет, дорогая!
– Отдай Элис, – командует она. – Это ей на день рождения. Так, я чайник ставлю, чайку выпьешь?
– Ага, давай. С днем рождения, Элис!
– Это не от него! – кричит она из кухни. – Иэн, будь добр, подойди, в чайник воды набери!
Он делает мне большие глаза и спешит в кухню.
– Думал, ты меня чаем угостишь, а мне, оказывается, самому его нужно сделать!
– А что, если я не достаю?
– Значит, столешницы пониже надо сделать.
– А платить кто будет? Ты, что ли?
Они продолжают беззлобно препираться, а стою в гостиной с ящиком красивейших красных и розовых цветов в руках.
– Герань, – вдруг произносит она, я поднимаю голову и вижу, как она смотрит на меня. – Тебе в сад.
– Спасибо, – отвечаю я и чувствую комок в горле.
* * *
По воскресеньям мы навещаем Олли.
Он отбывает срок в тюрьме Маунтджой, где вместе с ним сидят еще пятьсот человек. С возрастом он окреп, из неуклюжего подростка превратился в молодого человека, подтянутого и мускулистого, потому что его любимым занятием стали тренировки в тюремном спортзале. Вот с угрями у него дела плохи: еда казенная, и тут уже ничего не поделаешь. Он мог бы пойти учиться, но с тех пор, как его перевели в мужскую тюрьму, он ни о чем таком и слышать не желает, твердя, что хуже, чем школа в тюрьме, просто ничего быть не может. Для него теперь тюрьма – дом родной, и это меня беспокоит.
Он рассказывает, что работает в прачечной.
– Опытный будешь, когда домой вернешься, – замечает Лили.
– Трусы ваши грязные стирать? Перебьетесь! – отвечает он, и оба они как бы улыбаются, как всегда хорошо понимая свой загадочный, непостижимый для посторонних юмор.
Он спрашивает ее о кресле и о спине.
Она жалуется ему, как все ужасно.
Они говорят о том, какая дурная погода – серая, холодная.
Она ни слова не говорит о наших чудесных прогулках, о том, что мы делаем каждый день, о новых встречах и новых знакомых, о том, что после каждого нового сеанса физиотерапии ей становится лучше, что она теперь может передвигаться на костылях, без помощи стула. Ничего светлого она ему не приносит. Своими словами она как бы дает ему понять: тебе и здесь неплохо, ничего такого особенного там, на воле, ты не пропускаешь. Можно было бы сказать, что она делает это для него; может, она и сама сказала бы именно так, если бы я спросила, да только я так не думаю. А думаю я, что их навсегда соединило все, что есть мерзкого и темного в этом мире.
Мне приходит в голову рассказать ему только об одном: о Госпеле. Как он играет и какое место в лиге занимает его команда. Я, правда, не разговариваю с Госпелом, не разговариваю с тех пор, как мы распрощались навсегда, а просто пересказываю все, что сумела узнать из газет, журналов, телевизора, то, что слышу от комментаторов, других игроков, наставников, менеджеров.
Олли не хочет книг, учиться ему неинтересно, он считает дни до освобождения. Я вспоминаю, как в первые недели после вынесения приговора мы навещали его в тюрьме для несовершеннолетних; сначала он считал время до середины своего срока, трех лет и четырех месяцев, а потом собирался начать обратный отсчет.
– А он вроде бы ничего, – говорит Лили каждый раз, когда мы уходим, и в этом она права.
Он действительно вроде бы ничего. Тюремная жизнь вроде бы как раз по нему. У него своя компания, которую поддерживает он и которая поддерживает его. Он вроде бы получает удовольствие, выстраивая схемы и планы просто так, без всякой цели, увязает в ничтожных мелочах, вместо того чтобы смотреть на весь большой мир целиком или видеть в нем для себя большее, чем сейчас, место.
После первых же посещений я сказала ей, что он на чем-то сидит, но она не желала ничего слышать и обрывала меня: «Перестань, Элис!»
Вот я и перестала. А он – нет.
Я была бы только рада не навещать Олли, а он явно был бы рад меня не видеть, но без меня Лили не может добраться до него. В кресле-каталке совершать это путешествие нелегко, сама она его ни за что не осилила бы. Я сдерживаю дыхание, насколько могу. Здесь спертый воздух. Здесь плохо пахнет. Все тела притиснуты друг к другу, все унылые, перепуганные, – худшие, самые низкосортные варианты людей.
Я рада, что могу физически дистанцироваться ото всех, но страх и безысходность висят в воздухе: у кого-то выдалась плохая ночь, у кого-то –