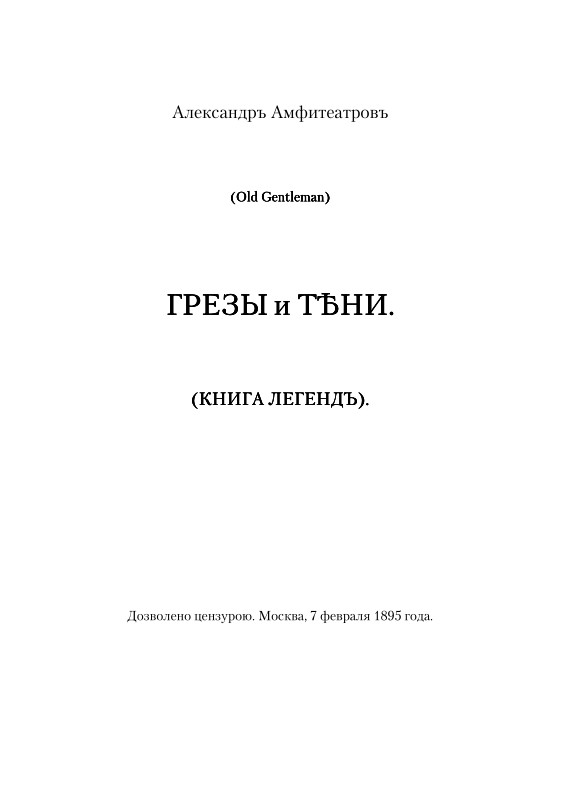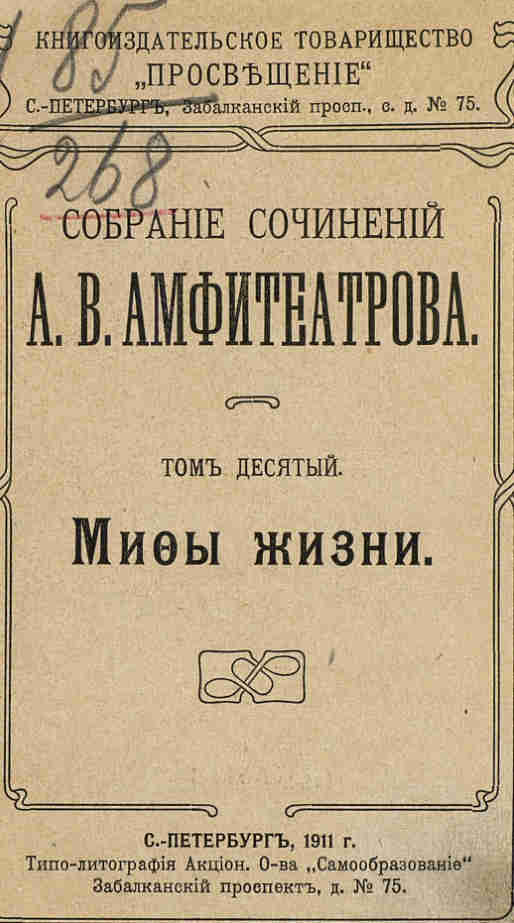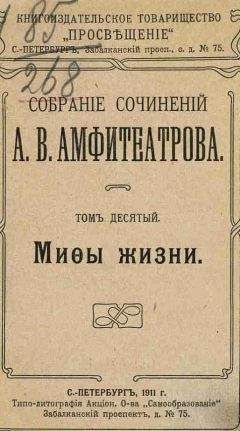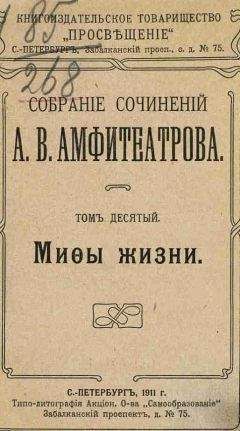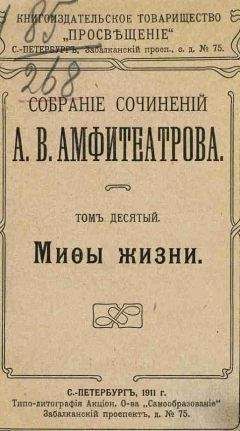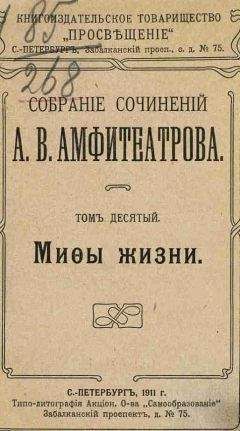class="p1">— Не можешь? почему?
— Нельзя.
— Ты всегда такая?
Вмѣсто отвѣта, она медленно подняла руки и обняла мою шею. Стало не до вопросовъ.
Любовный смерчъ пролетѣлъ. Я валялся y ея ногъ, воспаленный, полубезумный; a она стояла, положивъ руку на мои волосы, холодная и невозмутимая, какъ прежде. У меня лицо горѣло отъ ея поцѣлуевъ, a мои не пристали къ ея щекамъ — точно я цѣловалъ мраморъ.
— Мнѣ пора, — сказала она.
— Погоди… погоди…
Она высвободила руку.
— Пора…
— Тебя ждутъ? кто? мужъ? любовникъ?
Молчитъ. Потомъ опять:
— Пора.
— Когда же мы увидимся снова?
— Черезъ мѣсяцъ… я приду…
— Черезъ мѣсяцъ?! такъ долго?
— Раньше нельзя.
— Почему?
Молчитъ.
— Развѣ ты не хочешь видѣть меня раньше?
— Хочу.
— Такъ зачѣмъ же откладывать свиданіе?
— Это не я.
— Тебѣ трудно придти? тебѣ мѣшаютъ?
— Да.
— Семья y тебя что ли?
Молчитъ.
— Гдѣ ты живешь?
Молчитъ.
— Не хочешь сказать? Можетъ быть ты нездѣшняя?
Молчитъ и тянется къ двери…
— Пусти меня…
Я озлился. Сталъ поперекъ двери и говорю:
— Вотъ тебѣ мое слово; я тебя не выпущу, пока ты мнѣ не скажешь, кто ты такая, гдѣ твоя квартира, и почему ты не вольна въ себѣ.
Губы y нея задрожали… и слышу я… ну, ну, слышу… тѣмъ же ровнымъ голосомъ:
— Потому что я мертвая.
Внятно такъ…
И… и я ей сразу повѣрилъ, и вся она вдругъ стала мнѣ ясна. И я не испугался, a только сердце y меня какъ-то ухнуло внизъ, будто упало въ желудокъ, и удивился я очень. Стою, молчу и гляжу во всѣ глаза. Она спокойно прошла мимо меня въ переднюю. Я схватилъ свѣчу и за нею. Тамъ — Сергѣй, и лицо y него странное. Онъ выпустилъ гостью на подъѣздъ. На порогѣ она обернулась, и я наконецъ увидалъ ея глаза… мертвые, неподвижные глаза, въ которыхъ не отразился огонекъ моей свѣчи… Я вернулся въ кабинетъ. Стою и думаю:
«Что такое? развѣ это бываетъ? Развѣ это можно?»
И все не боюсь; только по хребту бѣжитъ вверхъ холодная, холодная струйка, перебирается на затылокъ и ерошитъ волосы. A свѣча все y меня въ рукахъ, и я ею машу, машу, машу… и остановиться никакъ не могу… О, Господи!.. Увидалъ бутылку съ коньякомъ: глотнулъ прямо изъ горлышка… зубы стучатъ, грызутъ стекло.
— Баринъ, а, баринъ! — окликаетъ меня Сергѣй.
Взглянулъ я на него и вижу, что онъ тоже знаетъ. Бѣлъ, какъ мѣлъ, и щеки прыгаютъ, и голосъ срывается. И тутъ только, глядя на него, я догадался, какъ я самъ-то испуганъ.
— Баринъ, осмѣлюсь спросить: какая это госпожа y насъ были?
Я постарался овладѣть собою.
— A что?
— Чтой-то онѣ какія… чудныя? Вродѣ, какъ бы…
И мнется, самъ стѣсняясь нелѣпости необходимаго слова.
— Ну?!
— Вродѣ, какъ бы не живыя?
Я — какъ расхохочусь… да вѣдь во все горло! минуты на три! Ажъ Сергѣй отскочилъ. A потомъ и говоритъ:
— Вы, баринъ, не смѣйтесь. Это бываетъ. Ходятъ.
— Что бываетъ? кто ходитъ?
— Они… неживые то-есть… И дозвольте: такая сейчасъ мзга на дворѣ, что хорошій хозяинъ собаки на улицу не выгонитъ; a онѣ — въ одномъ платьишкѣ, и безъ шляпы… Это что же-съ?
Я ужасно поразился этимъ: въ самомъ дѣлѣ! какъ же я то не обратилъ вниманія?
— И еще доложу вамъ: какъ сейчасъ вы провожали ее въ переднюю, я стоялъ аккуратъ супротивъ зеркала; васъ въ зеркалѣ видать, меня видать, a ея нѣтъ…
Я — опять въ хохотъ, совладать съ собой не могу, чувствую, что вотъ-вотъ — и истерика. A Сергѣй стоитъ, хмуритъ брови и внимательно меня разглядываетъ; и ничуть онъ моей веселости не вѣритъ, a въ томъ убѣжденъ. И это меня остановило. Я умолкъ, меня охватила страшная тоска…
— Ступай спать, Сергѣй.
Онъ вышелъ. Я видѣлъ, какъ онъ, на ходу, крестился.
Не знаю, спалъ ли онъ въ ту ночь. Я — нѣтъ. Я зажегъ свѣчи на всѣхъ столахъ, во всѣхъ углахъ, чтобы въ квартирѣ не осталось ни одного темнаго мѣстечка, и до солнца проходилъ среди этой иллюминаціи. Такъ вотъ что! вотъ что!.. тамъ все — какъ живое, какъ обыкновенное; и однако оно и необыкновенно, и мертво. Я не трусъ. Я не люблю думать… нѣтъ, не люблю рѣшать о загробныхъ тайнахъ, a фантазировать кто же не любитъ? Я интересовался спиритизмомъ, теософистами, новой магіей. Я слѣжу за французской литературой и охотникъ до ея оккультическихъ бредней.
Вонъ и сейчасъ на столѣ валяется La Bas. Но оккультизмъ красивъ, огроменъ, величавъ. Тамъ — Саулъ, вопрошающій Аэндорскую волшебницу, тамъ — боги, выходящіе изъ земли. Манфредъ заклинаетъ Астарту; Гамлетъ слушаетъ тайны мертваго отца; Фаустъ спускается къ «матерямъ». Все эффектныя позы, величавыя декораціи, значительныя слова, хламиды, саваны. Ну, положимъ, я не Саулъ, не Манфредъ, не Фаустъ, a только скромный и благополучный управляющій торговою конторой. Положимъ, что и чертовщина имѣетъ свой табель о рангахъ, и мнѣ досталось привидѣніе — по чину: изъ простенькихъ, поплоше. Но чѣмъ же я хуже, напримѣръ, какого-нибудь Аратова изъ «Клары Миличъ?» A сколько ему досталось поэзіи! «Розы… розы… розы…» — звуковой вихрь, отъ котораго духъ захватываетъ, слезы просятся на глаза. Но, чтобы привидѣніе пришло запросто въ гости и попросило чашку чаю… и, вонъ, лежитъ недоѣденный кусокъ хлѣба, со слѣдами зубовъ…
Это что-то ужъ черезчуръ по фамильному! Даже смѣшно… Только какъ бы мнѣ отъ этого «смѣшного» не сойти съ ума!..
Свѣчи мигаютъ желтымъ пламенемъ; день. Пришелъ Сергѣй; видитъ, что я не ложился, однако, ни слова. И я молчу.
Напившись чаю, я отправился въ лѣчебницу, гдѣ содержался Петровъ. Это оказалось недалеко, на Дѣвичьемъ полѣ, въ какихъ нибудь пяти-шести минутахъ ходьбы. Хозяинъ лѣчебницы — спокойный, рыжій чухонецъ, съ блѣднымъ лицомъ, которое узкая длинная борода такъ вытягивала, что при первомъ взглядѣ на психіатра невольно являлась мысль:
— Этакая лошадь!
Очень удивился, узнавъ мое имя.
— Представьте, какъ вы кстати! Петровъ уже давно твердитъ намъ вашу фамилію и ждетъ, что вы придете.
— Слѣдовательно, вы позволите мнѣ повидать его наединѣ? — спросилъ я, крайне непріятно изумленный этимъ сообщеніемъ.
— Сколько угодно. Онъ изъ меланхоликовъ; смирный. Только врядъ-ли вы разговоритесь съ нимъ.
— Онъ такъ плохъ?
— Безнадеженъ. У него прогрессивный параличъ. Сейчасъ онъ въ періодѣ «маніи преслѣдованія» и всякую рѣчь сворачиваетъ на свои навязчивыя идеи. Путаница, въ которой, какъ сказалъ бы Полоній, есть однако же что-то систематическое.
Камера Петрова, высокая, узкая и длинная, съ стѣнами, крашеными въ голубой цвѣтъ надъ коричневой панелью, была — какъ рама къ огромному, почти во всю вышину комнаты отъ пола до потолка, окну; на подоконникъ