Он представил Гришу и Татьяну Павловну в Океании, на коралловом атоле, под кушей тонких пальм, — и на минуту ему стало почти весело.
XXVIII
Санки бежали быстро по снежной мостовой. В лицо веял легкий морозный ветерок. На перекрестках улиц в железных круглых печках трещали дрова, рассыпая искры, распуская в воздухе теплый дым. Какие-то косматые, шершавые люди тянулись темными и на морозе лицами к сладкому дыму печей, прихлопывали громадными рукавицами и приплясывали, словно играли с искрами и с дымом.
Гришины щеки были румяны, Гришины глаза весело блестели, — русская зима нравилась Грише и веселила его северное сердце. Он был хорошо приучен к холоду и любил мороз.
Теперь, поддаваясь ощущению зимней бодрости, Алексей Григорьевич думал, что нельзя расстаться с родной землей, нельзя бежать за океан. Он думал, что надобно жить здесь, в этой суровой, но милой России. От Зверя, угнездившегося в городах, надобно уйти в широкие просторы русских долин, в бедный быт русской деревни, — быт бедный, темный, но подлинный, верный быт трудящегося мира. Надобно окунуться в эту величайшую изо всех стихий, в стихию простонародной жизни, в тот мир, где мать сырая земля неистощимо рождает все новые и новые силы, наперекор неистовству жестокой жизни.
Он вспомнил все то грубое и жестокое, что совершалось в деревне. Вспомнил разгром своей усадьбы крестьянами, теми самыми смирными и рабочими людьми, среди которых он провел свое детство, с которым он узнал, что его сверстники, товарищи его деревенских игр, Василий Менятов и Илья Цыганков, были вожаками громил, разрушивших и сжегших тот дом, в котором он родился. И ему вдруг опять стало страшно. С холодным отчаянием подумал он:
«Куда же идти?»
И ответил сам себе:
«Все-таки надобно идти к ним, на родную землю, к родному народу, и разделить его судьбу, какова бы она ни была».
Гриша весело говорил что-то, — Алексей Григорьевич едва слушал его, едва ему отвечал. И наконец Гриша замолчал. Задумался о чем-то своем.
Когда на повороте улицы санки раскатились и Гриша схватился рукой за его рукав, схватился почти бессознательно, продолжая додумывать свои думы, Алексей Григорьевич взглянул на него сбоку. Опять задумчивость, легшая на раскрасневшееся Гришино лицо, сделала его так радостно и так трогательно похожим на бледное Шурочкино лицо.
Сердце Алексея Григорьевича дрогнуло. И снова в душе его поднялась тоска.
XXIX
Уже было на улицах совсем темно, когда Алексей Григорьевич позвонил в квартиру Татьяны Павловны. Горничная в белом переднике, веселая молоденькая девушка с блудливыми серыми глазами, с неярким, городским цветом лица, скоро открыла ему дверь и, не дожидаясь его вопроса, сказала:
— Барыня дома, пожалуйте.
Показалось ли только так Алексею Григорьевичу, или сегодня он особенно отчетливо подмечал все, чем сказывается в людях и в предметах печаль, — только его удивило, что в серых Катиных глазах блестят слезинки. Он подумал:
«Мать больна, денег просит или барыня недовольна».
Ему казалось, что Катя стаскивает с него пальто не так ловко, как всегда. Он вошел в гостиную, где никого не было. Катя осветила комнату светом трех лампочек средней люстры и быстро ушла.
Алексей Григорьевич сел в кресло у стола. Повертел в руках альбом. Опять встал. Прошелся несколько раз по комнате. Томившее его беспокойство все возрастало.
Не зная сам, зачем он это делает, он взялся за ручку запертой двери, вошел в соседнюю темную комнату и не спеша подвигался вперед. Он даже не думал о том, что идет по комнатам чужой квартиры. Темнота успокаивала его, и он шел из комнаты в комнату.
Вдруг он увидел свет. Услышал голоса. Остановился. Хотел было повернуть назад, но стоял в странной нерешительности.
Слышалось два голоса, — тихий Катин голос и сдержанно-сердитый голос Татьяны Павловны. Казалось, что Татьяна Павловна за что-то бранит Катю. Потом она заговорила погромче, и Алексей Григорьевич услышал ее слова:
— Который раз я вам говорила, Катя. Никакого терпения нет. Если вы не хотите служить, так убирайтесь вон сейчас же.
Что-то отвечала Катя, очень тихо, но, судя по звуку ее голоса, что-то дерзкое. И тогда Татьяна Павловна, вдруг забывши, что в квартире есть гость и что надобно сдерживаться, звонко крикнула злым голосом:
— Как ты смеешь, дерзкая девчонка! Вот тебе! Вот тебе!
И вместе с этими словами послышались резкие звуки двух звонких пощечин и тихие вскрикивания Кати:
— Ах! Ах!
Алексей Григорьевич стоял, охваченный негодованием и страхом. Ему казалось, что этого не может быть, что это — какая-то ошибка. Может быть, кто-нибудь другой, экономка, что ли, стоит там и бьет по щекам девушку.
Он тихо сделал два шага вперед. Перед ним в зеркале, стоявшем над нарядным туалетом, отразилось в полуобороте сильно покрасневшее, сердитое лицо Татьяны Павловны и испуганное лицо плачущей Кати. Лицо Татьяны Павловны покраснело пятнами, углы рта неприятно опустились, и она казалась грубой и вульгарной.
Катины щеки ярко пылали. Она стояла прямо, опустив руки, не вытирая быстрых слез, и говорила тихо:
— Барыня, простите, я больше не буду.
И опять поднялась красивая, белая рука Татьяны Павловны, и так спокойно и ловко, словно совершая привычное движение, звонко опустилась на покорно подставленную Катину щеку. И в то же время Татьяна Павловна кричала, уже не сдерживая голоса, грубым тоном рассерженной женщины:
— Не смей дерзить, негодная девчонка! Вот тебе за это еще!
В благоуханном воздухе комнаты, нежно розовея в мягком озарении лампочек, прикрытых розовыми колпачками, мелькнула другая рука Татьяны Павловны, и четвертая пощечина раздалась как будто бы еще звонче первых трех. Катя громко зарыдала, быстро опустилась на колени и жалобным, похожим на детский, голосом говорила:
— Барыня, миленькая, больше не буду. Никогда больше не буду.
Татьяна Павловна отвернулась от нее.
Алексей Григорьевич поспешно пошел прочь. В полутьме неосвещенных комнат он задел за что-то, — послышался грохот сдвинутого с места стула. Татьяна Павловна, выглянув из двери, дрогнувшим от волнения голосом спросила:
— Кто там?
Алексей Григорьевич, не отвечая, вернулся в гостиную.
XXX
«Что же это? — думал Алексей Григорьевич. — Как может нежное сердце женщины распаляться такой злостью? Как может прекрасная рука очаровательной дамы с такой удивительной ловкостью и с такой силой опускаться на щеки перепуганной служанки? Что же это, — случайная вспышка, несчастный случай, один из тех, которые могут случиться со всяким? Или то, что делается не раз?»
«А эта глупая девчонка, которую бьют, зачем же она терпит? Зачем она сама подставляет под удары госпожи свои бледные щеки? Зачем, как рабыня, бросается к ногам обидевшей ее женщины? По привычке с детства? Или от испуга, потому что натворила что-нибудь очень скверное? Или, может быть, уже знает по опыту, что вспыльчивая барыня потом вознаградит ее за эти пощечины каким-нибудь подарком, — старым платьем, или ленточкой, или мало ли еще чем?»
Потом, вдумываясь в то, что он теперь чувствует, Алексей Григорьевич с удивлением заметил, что нет в его душе ни сильного гнева, ни яркого негодования. Скорее страх какой-то, какое-то холодное равнодушие.
Алексей Григорьевич закрыл глаза, стараясь вызвать прежний милый образ Татьяны Павловны, веселой, любезной женщины со смеющимися глазами. И это ему удалось. Он опять почувствовал в своем сердце нежную жалость к ней, к этой запутавшейся в лукавых сетях Зверя, но все-таки, конечно, милой, доброй женщины. Захотелось обойтись с ней, как с провинившимся ребенком, заставить ее застыдиться, покраснеть, раскаяться, — захотелось по-отцовски побранить, простить, увезти ее отсюда, перенести в иную жизнь, простую, здоровую, братскую, где люди не обижают друг друга.
Ведь все то, что говорила ему Татьяна Павловна, всегда казалось ему таким близким его душе. Разве не одинаково думают о жизни они оба? Разве не одинаково обоим им противен лютый Зверь, жестокий властелин города? И разве случайные победы его над нашим сердцем не должны равно печалить их обоих?
XXXI
Послышались за дверью легкие, быстрые шаги. Дверь бесшумно открылась, вошла Татьяна Павловна. Алексей Григорьевич почувствовал, что он взволнован. Он пошёл к ней навстречу.
Весело улыбаясь, она протянула ему руку, — и ни в лице ее, ни в звуке ее любезного привета, ни в ее уверенных движениях ничто не напоминало той сварливой бабы, растрепанной, красной, которая свирепо била по щекам свою служанку.
Алексей Григорьевич молча пожал ее руку. Не поднес ее к губам для поцелуя, как делал это всегда, следуя приятному светскому обычаю.
Татьяна Павловна всмотрелась в его лицо. Как будто бы смутилась слегка. Слегка прикрыла веки. Спросила участливым тоном, — и в звуке ее голоса Алексею Григорьевичу послышалось притворство:
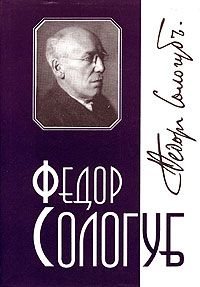
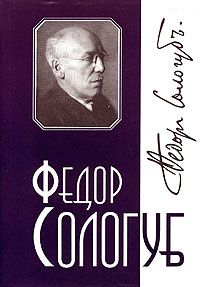
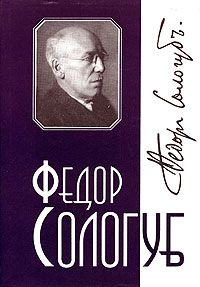

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)
