Алексей Григорьевич понял, что она что-то хочет рассказать ему. До обеда оставалось еще минут пятнадцать. Он сказал:
— Ты, Гриша, переоденься к обеду и займись пока чем-нибудь. А мне надобно с Серафимой Андреевной поговорить.
Когда они вдвоем вошли в кабинет, Серафима Андреевна испуганно заговорила:
— Что тут у нас делается, просто и ума не приложу.
— Садитесь, Серафима Андреевна, — сказал Алексей Григорьевич, — и рассказывайте. Уж я знаю, что хорошего ждать надобно мало.
Экономка рассказывала:
— Только что вы с Гришенькой уехали, слышу я, Елена Сергеевна разливается, плачет. Я к ней, — что, говорю, такое, что с вами? А Елена Сергеевна, вижу, вне себя, говорит совсем несообразные слова, — я, говорит, таких дел тут наделала, что не знаю, говорит, что мне за это и будет. Только, говорит, я ни в чем не виновата, а виноват во всем Дмитрий Николаевич, а быть мне здесь, говорит, больше никак нельзя. Живо-живехонько собралась, чемоданишко свой укладывает, говорит мне, — давайте мне паспорт, я сейчас съезжаю от вас к своей маменьке. Я не знаю, что и делать, что говорить, только думаю себе, как же это я ее без вас отпущу, — потом, может быть, чего не досчитаемся, кто будет в ответе. Говорю ей, — нет, Елена Сергеевна, говорю, вы меня извините, а только без Алексея Григорьевича я ни паспорта вашего, ни вещей из квартиры выпустить не могу. А она мне довольно спокойно говорит, — да вы, говорит, не бойтесь, я ничего здесь не украла, а только жить здесь мне нельзя ни одной секунды. Я, говорит, уйду, а вещи и паспорт вы мне пришлите, я у своей маменьки буду. Уж я не знаю, как и быть, и отпустить-то ее боюсь, да и задерживать не смею. Стараюсь ее словами разговорить всячески, но она никакого внимания не обращает, живо-живехонько оделась и побежала, — только каблучки по ступенькам зацокали. Только этому делу минут пять прошло, еще я и очухаться не успела, как вдруг новое происшествие, — заявляется Дмитрий Николаевич. А у меня сердце не на месте, ноги подкашиваются, успокоиться не могу, хожу по комнатам дура дурой, в окошки поглядываю. Вижу, Дмитрий Николаевич подъезжает, я сама в прихожую выхожу, Наташе строго-настрого приказала, — что ты, мол, Наташа, не суйся, язык за зубами держи, что тут было, ни о чем ни гугу. Вошли, пальто неглиже скинули, — дома? — спрашивают. Говорю, — только что уехали. — А Гриша, говорят, дома? Вот, говорят, я ему конфет привез, каштанов, знаю, говорят, что он до них большой охотник, пусть полакомится. Спрашивают про Елену Сергеевну, и тут я, уж не знаю с чего, возьми и проболтайся. Что-то, говорю, неладно с Еленой Сергеевной, — да и давай им все по порядку выкладывать. А Дмитрий Николаевич, вижу, в лице переменились, ворчат сквозь зубы — Экая дурища! — Тут мне как в голову ударило, что Елена-то Сергеевна про них что-то говорила, что они будто в чем-то виноваты. Ну, думаю, помолчать бы мне до Алексея Григорьевича. А они к дверям и конфеты с собой забирают, а то было их поставили на столик подзеркальный. Я им говорю, да вы, Дмитрий Николаевич, говорю, коробочку-то оставьте, я передам Гришеньке. Нет, говорят, я сам вечером занесу. И скоро-скорехонько пошли вон, как будто рассердившись на что-то, и так каштанов и не захотели оставить. Батюшка Алексей Григорьевич, что я, напутала тут что или что такое?
— Все хорошо обошлось, Серафима Андреевна, сказал Алексей Григорьевич, — а чуть было очень плохо не вышло. А вся беда в том, что у Гриши денег много. Дело-то вот и чем…
В это время раздался стук в дверь, и вошла Наташа с письмом. Сказала:
— Посыльный подал, от Елены Сергеевны.
Алексей Григорьевич торопливо разрезал конверт и прочел:
«Милостивый Государь
Алексей Григорьевич!
После нашего разговора с Вами и узнав, что Вы Бог знает в чем подозреваете меня, я, конечно, не могу оставаться в Вашем доме. Я переехала к моей маменьке. Мои вещи и паспорт прошу мне прислать, если можете, сегодня, а также и мое жалованье за последний месяц. Грише от души желаю всего наилучшего, и больше всего, чтобы он получил поскорее вторую мать и с ней теплую женскую ласку, которой ему не хватает в Вашем доме и которую ему может дать только Ваша супруга, а не наемная гувернантка, хотя бы и такая усердная и послушная Вам, как я была.
Готовая к услугам
Елена Кирпичевская».
Внизу был приписан адрес.
Алексей Григорьевич понял, что она виделась уже с Дмитрием Николаевичем. Вернее всего, что и письмо написано под его диктовку.
Алексей Григорьевич брезгливо швырнул письмо на стол. Глупые слова о второй матери, — конечно, подразумевалась Татьяна Павловна, — показались ему кощунственными. Как смеет эта низкая обманщица говорить об этой очаровательной женщине!
XXXV
На другой день Кундик-Разноходский опять сидел у Алексея Григорьевича. Прежде всего спросил:
— Могу я узнать, оправдалось ли мое вчерашнее предсказание насчет коробки конфет?
Алексей Григорьевич сказал:
— К сожалению, оправдалось. И даже раньше, чем вы говорили. Коробку принесли днем.
Кундик-Разноходский, хихикая, сказал:
— Поторопились. Итак, глубокоуважаемый Алексей Григорьевич, вы сами изволите видеть, что мои сведения основательны. Документики я принес и нахожусь в приятном ожидании получения денег.
Алексей Григорьевич достал из письменного стола приготовленные деньги и отдал их Кундик-Разноходскому. Тот пересчитал деньги с большим удовольствием. Потом вынул из бокового кармана перевязанную красной ленточкой пачку писем. Алексей Григорьевич взял письма, развязал алую ленточку, взглянул на первое письмо, — и сердце его упало.
Знакомый почерк. Почерк Татьяны Павловны. Даты недавние, — этот год, прошлый. Слова нежные. Письма написаны какому-то Диме. И между ними одно письмо мужским почерком, — и этот почерк знаком, — почерк Дмитрия Николаевича.
Прочел в одном из ее писем три только строчки:
«Дурак влюблен в меня без памяти. Его пресные рассуждения надоели мне до чертиков».
Больше не стал читать. Понял всю махинацию.
«Бежать, бежать за океаны или за горы!» — думал он.
Дама в узах
Легенда белой ночи
У одного московского мецената (говорят, что меценаты водятся теперь только в Москве) есть великолепная картинная галерея, которая после смерти владельца перейдет в собственность города, а пока мало еще кому ведома и трудно доступна. В этой галерее висит превосходно написанная, странная по содержанию картина малопрославленного, хотя и весьма талантливого русского художника. В каталоге картина обозначена названием «Легенда белой ночи». Картина изображает сидящую на скамейке в едва только распускающемся по весне саду молодую даму в изысканно-простом черном платье, в черной широкополой шляпе с белым пером. Лицо дамы прекрасно, и выражение его загадочно. В неверном, очарованном свете белой ночи, который восхитительно передан художником, кажется порою, что улыбка дамы радостна; иногда же кажется эта улыбка бледною гримасою страха и отчаяния.
Рук не видно, — они заложены за спину, и по тому, как дама держит плечи, можно подумать, что руки ее связаны. Стопы ее ног обнажены. Они очень красивы. На них видны золотые браслеты, скованные недлинною золотою цепочкою. Это сочетание черного платья и белых необутых ног красиво, но странно.
Эта картина написана несколько лет тому назад, после странной белой ночи, проведенной ее автором, молодым живописцем Андреем Павловичем Крагаевым, у изображенной на картине дамы, Ирины Владимировны Омежиной, на ее даче близ Петербурга.
Это было в конце мая. День был теплый и очаровательно-ясный. Утром, то есть в ту пору, когда рабочий люд собирается обедать, Крагаева позвали к телефону.
Знакомый голос молодой дамы говорил ему:
— Это — я, Омежина. Андрей Павлович, сегодня ночью вы свободны? Я жду вас к себе на дачу ровно в два часа ночи.
— Да, Ирина Владимировна, благодарю, — начал было Крагаев. Но Омежина перебила его:
— Итак, я вас жду. Ровно в два часа.
И тотчас же повесила трубку. Голос Омежиной был необычайно холоден и ровен, каким бывает голос человека, готовящегося к чему-то значительному. Это, а также и краткость разговора немало удивили Крагаева. Он уже привык к тому, что разговор по телефону, и особенно с дамою, бывает всегда продолжительным. Ирина Владимировна, конечно, не составляла в этом отношении исключения. Сказать несколько слов, и повесить трубку — это было неожиданно и ново, и возбуждало любопытство.
Крагаев решился быть аккуратным и не опаздывать. Он заблаговременно заказал автомобиль, — своего еще не было.
Крагаев был довольно хорошо, хотя и не особенно близко, знаком с Омежиной. Она была вдова богатого помещика, умершего внезапно за несколько лет до этой весны. Она и сам? имела независимое состояние. Дача, куда она приглашала Крагаева, была ее собственная.
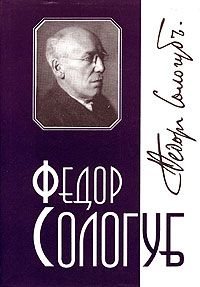
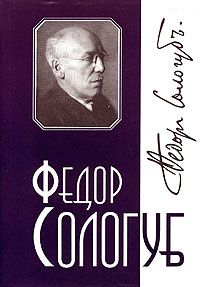
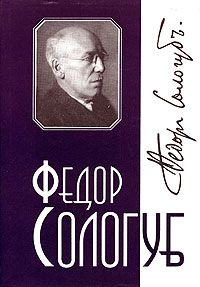

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)
