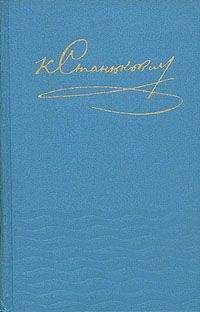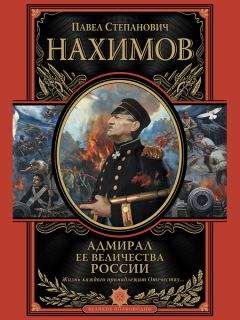— Вы догадаетесь, господа, что мы проводили этого изверга проклятиями и снова застыли на своих местах, еще более отчаявшиеся. Еще бы! Видеть возможность спасения, видеть этот бриг так близко — потерять надежду… Это было ужасно… Мой боцман, несмотря на то, что едва держался от утомления на вантах, не переставал ругать бриг самыми страшными ругательствами, какие только может придумать воображение моряков… И вдруг опять крик: «Парус!» Признаться, мы уже мало надеялись… Пройдет мимо, думали мы… Однако кто-то замахал флагом — невольно протягивались руки. По остановке я сразу узнал военное судно, и когда увидал, как на корвете вашем великодушно прибавили парусов, несмотря на свежий ветер, о, тогда я понял, что мы спасены, и мы благословляли вас и плакали от счастья, не смея ему верить…
Старик примолк и после паузы промолвил:
— К сожалению, только не все приехали живыми… Двое не перенесли этих страданий.
Этих несчастных похоронили в тот же день, после того, как доктор установил несомненный факт их смерти.
Похоронили их по морскому обычаю в море.
Тела их были зашиты в парусину, плотно обмотаны веревками, и к ногам их привязаны ядра.
В пятом часу дня на шканцах были поставлены на козлах доски, на которые положили покойников. Явился батюшка в траурной рясе и стал отпевать. Торжественно-заунывное пение хора певчих раздавалось среди моря. Капитан, офицеры и команда присутствовали при отпевании этих двух французских моряков. Из товарищей покойных один только помощник капитана был настолько здоров, что мог выйти на палубу; остальные лежали в койках.
Панихида окончена.
Тогда несколько человек матросов подняли с козел доски, понесли их к наветренному борту, наклонили… и два трупа с тихим всплеском исчезли в серо-зеленых волнах Немецкого моря…
Все перекрестились и разошлись в суровом молчании.
Приспущенный до половины кормовой флаг в знак того, что на судне покойник, снова был поднят.
— То-то и есть! — не то укорительно, не то отвечая на какие-то занимавшие его мысли, проговорил громко один рыжий матрос и несколько времени смотрел на то место, куда бросили двух моряков.
V
Капитан обещал довезти французов до Бреста, куда он рассчитывал зайти после остановки в Темзе, в небольшом городке Грейвсенде, в часе езды от Лондона.
Матросы относились к пассажирам-французам с необыкновенным добродушием, вообще присущим русским матросам в сношениях с чужеземцами, кто бы они ни были, без разбора рас и цвета кожи. Они с трогательной заботливостью ухаживали за оправлявшимися моряками и угощали их с истинно братским радушием.
Перед обедом, то есть в половине двенадцатого часа, когда не без некоторой торжественности выносилась на шканцы в предшествии баталера большая ендова с водкой и раздавался общий свист в дудки двух боцманов и всех унтер-офицеров, так называемый матросами «свист соловьев», призывавший к водке, — матросы, подмигивая и показывая на раскрытый рот, звали гостей наверх.
— Алле наверх, водку пить… У нас, братец, водка бон… Понимаешь?
Француз, ничего не понимая, деликатно кивает головой.
— Шнапс тре бон… очень скусна напитка! — продолжает матрос, уверенный, что коверкание своих слов в значительной мере облегчает понимание.
И баталер не начинал обычно выклички матросов, пока французы первые не выпивали по чарке водки.
Зная, что их ждут, они, по примеру русских, сразу глотали изрядную чарку крепкой водки, и некоторые из них отходили в толпу, едва переводя дух, словно бы внезапно чем-то озадаченные люди.
— Что, брат, забирает российская водка? — добродушно спрашивает матрос, хлопая по плечу низенького, сухощавого и смуглого французского матроса. Нака-сь, сухариком заешь!
— Они по-нашему, братцы, не привычны, — авторитетно говорит фор-марсовый Ковшиков, рыжий, с веснушками, молодой парень, с добродушно-плутоватыми смеющимися глазами и забубенным видом лихача и забулдыги-матроса. — Я пил с ими, когда ходил на «Ласточке» в заграницу… Нальет это он в рюмочку рому или там абсини[64] — такая у них есть водка — и отцеживает вроде быдто курица, а чтобы сразу — не согласны! Да и больше все виноградное вино пьют.
— Ишь ты!
— Что, камрад, бон водка? — спрашивает он, подходя к смуглому французу с озадаченным видом. — Вулеву-анкор? — неожиданно говорит он, приводя в изумление товарищей таким знанием французского языка.
Чернявый француз смеется и в свою очередь ошарашивает всех, когда, старательного выговаривая слова, произносит:
— Карош русски водки!
Эффект полный. В толпе хохот.
— Карош. Ишь ведь, дьявол, по-нашему умеет! — весело говорит Ковшиков и с самым приятельским видом треплет француза по спине. — В Кронштадт парле русс учил?
— Cronstadt…
— Ловко! Ай да Галярка! — внезапно переделал Ковшиков французскую фамилию Gollard на русский лад. — А вот посмотри, как я сейчас чарку дерну…
В эту минуту баталер кричит:
— Андрей Ковшиков!
— Яу! — отвечает Ковшиков сипловатым голосом.
И, снявши фуражку, подходит к ендове. Лицо его в это мгновение принимает серьезно-напряженное и несколько торжественное выражение. Слегка дрожащей от волнения рукой зачерпывает он полную чарку и осторожно, словно бы драгоценность, чтобы не пролить ни одной капли, подносит ее ко рту, быстро и жадно пьет и отходит.
— Видел, брат Галярка, как пьют у нас? Я и анкор и еще анкор — сделай одолжение, поднеси только! — смеется он. — Ну, машер, обедать!
И, подхватив француза, он ведет его вниз.
Там уже разостланы на палубе брезенты, и матросы артелями, человек по десяти, перекрестившись, усаживаются вокруг деревянных баков, в которые только что налиты горячие жирные щи.
— Садись, Галярка… Кушай на здоровье!.. Вот тебе ложка.
В этой же артели сидит и Бастрюков, а около него юнга-француз, мальчик лет пятнадцати, бледный, с тонкими выразительными чертами лица, еще не вполне оправившийся после пережитых ужасных дней. Бастрюков с первого же дня взял этого мальчика под свое покровительство и ухаживал за ним, когда тот первые дни лежал в койке. Подойдет к нему, погладит своей шершавой, мозолистой рукой белокурую голову, стоит у койки и ласково глядит на мальчика, улыбаясь своей хорошей улыбкой. И мальчик невольно улыбается. Так постоит и уйдет. А то принесет ему либо чаю, либо кусок булки, за которой ходил к вестовым.
— Вы, ребята, дайте господской булки. Сиротке снести.
— Какому сиротке?
— Да мальчонку французскому.
Раз Ашанин увидал Бастрюкова, выпрашивающего у вестовых булки и, узнав, в чем дело, приказал давать Бастрюкову каждый день по булке.
— Спасибо, барин! — весело благодарил старый матрос. — Сиротка рад будет.
— Почему ты думаешь, что он сиротка?
— Беспременно сиротка, — уверенно отвечал матрос. — Нешто отец с матерью пустили бы такого мальчонка, да еще такого щупленького, на такую жизнь.
И Бастрюков был несколько разочарован, когда Володя, расспросив юнгу, узнал, что отец-рыбак и мать у него живы и живут в деревне, близ Лориана, у берега моря.
— Все равно, вроде быдто сиротки, коли родители его такие, не могли поберечь сына, — заметил Бастрюков, выслушав Ашанина.
Когда юнга, его звали Жаком, поправился, Бастрюков однажды принес ему свою собственную тельную рубашку, купленную в Копенгагене, и шарф.
— Носи, брат Жака, на здоровье!
Вслед затем он снял с его ног мерку и стал ему шить сапоги: «Пригодится, мол, сиротке».
И теперь, сидя рядом с Жаком, Бастрюков то и дело указывал на бак со щами и говорил:
— Ешь, Жака, ешь, сирота.
И находя, что Жак ест не так, как бы следовало есть здоровому парнишке, Бастрюков обратился к Ковшикову:
— Ты ведь, милый человек, по-ихнему лопотать умеешь?
— Могу помалости…
— Так спроси Жаку, чего он лениво щи хлебает? Али не скусны?
— А вот сейчас мы твоего Жаку допросим! — довольно храбро отвечал Ковшиков.
И, хлопнув по плечу Жака, спросил:
— Жака! щи бон?
Жак, разумеется, ничего не понимал.
— Вот энто самое — бон?
И рыжий матрос указал своим, не особенно чистым, корявым пальцем на щи.
Жак понял. Он закивал головой и, весело щуря глаза, ответил:
— La soupe aux choux est exquise! (Щи вкусные!)
— Карош! — подтвердил и другой француз.
— Хвалит щи Жака.
— Чего же он лениво ест? — спросил Бастрюков.
— Не в охотку. Говорит: солонину буду, — сделал свой вдохновенный вольный перевод, ни на минуту не задумываясь, Ковшиков.
Когда бак со щами был опростан, артельщик вынул из него большой жирный кусок солонины, разрезал его на мелкие куски и свалил крошево обратно. Все ели мясо молча и не спеша, видимо стараясь не опередить один другого, чтобы всем досталось поровну.