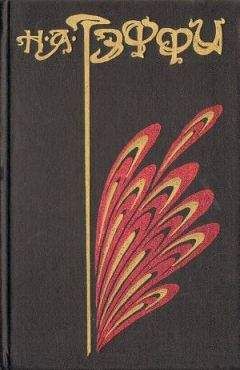Когда ему пришла блестящая идея пригласить на концерт знаменитость сезона, певицу Заливанскую, он не поехал прямо к ней, как это сделала бы всякая простая душа на его месте, а стал искать общих с певицею знакомых, чтобы, действуя через них, бить наверняка.
Сначала нашел даму, которая приходилась троюродной сестрой той самой чиновнице, у которой дядя аккомпаниатора Заливанской бывал в прошлом году запросто.
Но когда, после долгого и упорного ухаживания за дамой, выяснилось, что Заливанская давно переменила аккомпаниатора, пришлось искать других путей. И пути эти нашлись в лице репортера Букина, который был прекрасно знаком с Андреем Иванычем, поклонником Заливанской.
– Как же, дорогой мой! Прекрасно его знаю! Мы с ним почти на «ты»!
– А это что же значит: «почти на ты»? – спросил Павел Антоныч.
– Как что? Значит, на «вы». Словом, очень дружны. Уж я постараюсь быть вам полезным.
И постарался.
Через неделю поклонник Андрей Иваныч говорил Заливанской:
– Вы знаете, скоро будет концерт в пользу общества «Вдовий вздох».
– Да, да, я слышала, – оживленно ответила Заливанская. – Кажется, очень интересный концерт. Мне так жаль, что они меня не пригласили участвовать, – даже не понимаю, почему. Облакову пригласили, а меня – нет. Почему для них Облакова интереснее? Я даже хочу просить пианиста Диезова – пусть узнает, в чем дело, и намекнет, что я хочу у них петь.
– Гм… – сказал Андрей Иваныч. – Вот уж это совершенно напрасно.
– Почему же? Такой большой концерт – ведь это же для меня реклама.
– Большой? Почему вы думаете, что большой?
– Да как же – все такие имена, и зал большой, и вообще концерт интересный.
– Гм… Насчет имен сомневаюсь. Если кто и дал, по легкомыслию, свое согласие, то, обдумав все, наверное, откажется.
– Да почему же?
– Да уж так.
– Ничего не понимаю!
– Потом поймете, да уж поздно будет.
Заливанская испуганно скосила глаза.
– Неужели нельзя участвовать? А мне так хотелось!
– Мало ли чего человеку хочется.
– А как же Облакова? Почему же ей можно, а мне нельзя?
– К Облаковой можно позвонить по телефону и посоветовать, чтобы не ездила. Вот и вся недолга.
– Да почему же это так опасно? Что же, это какое-нибудь темное дело, что ли? Грабеж, или что?
– Может быть, и грабеж, а может быть, и похуже. Во всяком случае, если вам дороги наши отношения, то я прошу вас сейчас же дать мне слово, что вы ни в каком случае в этом концерте участвовать не станете. Слышите?
– Слышу!
– Даете слово?
– А все-таки… мне хочется…
– Даете слово или нет? Я серьезно спрашиваю, и спрашиваю в последний раз.
– Даю, даю. Даю слово, что не пойду. Даже в публику не пойду. Но в чем же дело?
Андрей Иваныч вздохнул глубоко, как человек, исполнивший возложенную на него тяжелую обязанность, и сказал:
– Дело вот в чем: вот уже целая неделя, как повадился ко мне бегать какой-то Букин – темная личность. Проходу не дает, все настаивает, чтобы я уговорил вас участвовать в этом дурацком концерте. Я сразу понял, что дело подозрительное. В особенности вчера. Представьте себе: заманил меня в ресторан, угощает на свой счет, лезет с комплиментами и, в конце концов, взял с меня слово, что я вас уговорю. Вы, конечно, сами понимаете, что, будь это дело чистое, они просто приехали бы к вам, да и пригласили.
– Н-да, это верно!
– Ну-с, так вот я теперь считаю, что по отношению к вам я поступил, как джентльмен – предостерег и оградил.
Он гордо выпрямился, а Заливанская вздохнула и прошептала:
– Благодарю вас. Вы – хороший друг, вы не поддались им. Но как жаль, что все это так подозрительно и гадко. Мне ведь так хотелось участвовать!..
Каждому человеку хочется повеселиться на праздниках, а в особенности, если этот человек барышня и служит в конторе, где каждый день, кроме воскресений и двунадесятых праздников, выстукивает на машинке:
«Имея у себя перед глазами ваше почтенное письмо от двадцатого апреля…»
Танечка Банкина решила ехать на костюмированный вечер к Пироговым.
Три дня и три ночи обдумывала она свой костюм, который должен был быть красивым, дешевым и, главное, совершенно необычайным, какого никогда ни у кого не было, да и не будет.
Две подруги Танечки Банкиной помогали ей, напрягая все свои душевные силы.
– Не одеться ли мне феей счастья? – спрашивала Танечка.
– Хороша фея в четыре пуда весом! – отвечали подруги дуэтом.
– Сами-то вы очень тоненькие! – обижалась Танечка.
– Так мы и не лезем в феи.
– А если одеться незабудкой? Просто голубые чулки и все вообще голубое. А?
– И выйдет просто дура в голубом платье.
– А если одеться бабочкой? Привязать крылышки…
– Хороша бабочка три аршина в обхвате.
– Господи! – застонала Танечка. – Не могу же я одеться сорокаведерной бочкой?! Такого и костюма нет.
Решила позвать портниху посоветоваться.
Портниха Марья Ардальоновна жила в тех же комнатах, и звали ее для краткости и обоюдного удобства просто Мордальоновной.
Пришла она охотно и с двух слов показала, что вопрос о костюме для нее сущие пустяки.
– Есть хорошенький костюм Амур и Психея – платье с грецким узором и в руке стрела. А еще есть почтальон – сумочка через плечо, а сзади большущий конверт с печатью. А то еще турчанка. Очень хорошо. Шаровары широкие – и на мужскую фигуру годится, ежели кто хочет запорожцем одеться.
Советы Мордальоновна давала свысока и очень оскорбительным тоном. Танечке стало обидно.
– Это все слишком известные костюмы. Мне хочется что-нибудь оригинальное.
– Ну, тогда одевайтесь маркизой.
Танечка призадумалась.
– А то вакханки хороший костюм, и тоже большая редкость.
Это было уже совсем хорошо. Решила сшить костюм вакханки из старого коричневого платья.
– Это ничего, что темное. Ведь вакханки разные бывали. Это будет такая вакханка, которая не любила очень распараживаться. Практичная вакханка.
На голову надела венок из листьев и прицепила веточку настоящего винограда.
У Пироговых народу оказалось очень много. Было жарко и душно.
Какая-то маска подскочила к Танечке.
– Это у тебя что за костюм? Бахчисарайская кормилица?
Танечка упала духом и забилась в угол.
Новые сапоги жали ноги, маска прилипла к лицу.
Подбежал какой-то дурень в бубенчиках и съел виноград с Танечкиной головы, лишив ее таким образом единственного вакхического признака.
Танечка совсем притихла.
А другие веселились.
Какой-то маркиз плясал русскую в присядку. Монах лихо откалывал польку с рыбачкой, крутя ее то влево, то вправо, то пятился, то наступал на нее.
– Веселятся же люди! – тосковала Танечка.
Мысли у нее были самые печальные.
– Извозчик тридцать копеек сюда да тридцать назад. Новые сапоги восемь рублей. Перчатки полтора… Винограду полфунта двадцать копеек… И к чему все это? Нет, нужно было одеться незабудкой, тогда все пошло бы совсем иначе.
Зачесался под маской нос.
– Господи! Хоть бы нос можно было как-нибудь ухитриться почесать! Все-таки веселье было бы.
Но вдруг судьба Танечки Банкиной круто изменилась. Развеселый маркиз пригласил ее на вальс.
Танечка запрыгала рядом с ним, стараясь попасть в такт музыке и вместе с тем в такт маркизу. Но это оказалось очень трудным, потому что маркиз жил сам по себе, а музыка – сама по себе.
Танечке было душно. От маркиза пахло табаком, как от вагонной пепельницы, и он наступал на Танечкины ноги по очереди, то на правую, то на левую, какая подвернется. Соседние пары толкались локтями и коленями.
Танечка пыхтела и думала:
– Вот это и есть веселье. Вот к этому-то все так и стремятся. Хотят, значит, чтобы было жарко, и душно, и тесно, чтоб жали сапоги и пахло табаком, и чтоб нужно было скакать, и чтобы со всех сторон дубасили, куда ни попало.
За обратный путь ей пришлось отвалить извозчику целый полтинник – дешевле не соглашался, – и, укладываясь спать, Танечка еще раз подсчитала расходы и подумала с тайной гордостью:
– Раз мне все это не нравится, это доказывает только, что я умная и серьезная девушка, которая не гонится за бешеными удовольствиями.
И когда она засыпала, перед глазами ее был не лихой маркиз и не дерзкий дурень в бубенчиках, а чье-то «почтенное письмо от пятого декабря».
И губы ее усмехались серьезно и гордо.
Маленькая, кособокая старушонка перешла площадь, грязную, липкую, всю, как сплошная лужа, хлюпающую площадь уездного городка.
Перейти эту площадь было дело нелегкое и требовало смекалки и навыка.
Старушонка шла бодро, только на самых трудных местах, приостановившись, покручивала головой, но не возвращалась назад, плюнув от безнадежности. Сразу можно было видеть, что она не какая-нибудь деревенская дура, а настоящая городская штучка.