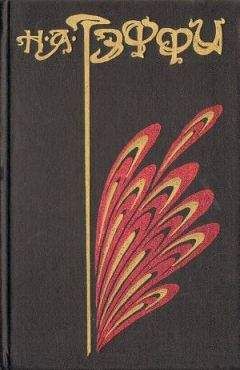Она поднялась по лестнице, дошла до квартиры, где двери были открыты, и молча стояли темные фигуры, склоненные над тихими огоньками дрожащих свеч…
– Ах, Бобик! – вспомнила она. – Бобик милый, я люблю тебя! Что ты наделал!
Но душа ее не слышала этих своих слов и она повторила снова:
– Бобик, я люблю тебя! Бобик мой! Как называл ты меня, милый? Ты говорил мне: «Вы – как лилия! Вы неповторимая». Ведь ты так говорил мне. И я никогда не забуду этих слов!
Дело Николая Ардальоныча была на мази.
Задержки никакой не ожидалось, тем более, что у Николая Ардальоныча была в министерстве рука – свой человек, друг и приятель, гимназический товарищ Лаврюша Мигунов.
– Дорогой мой! – говорил Лаврюша. – Я для тебя все сделаю, будь спокоен. Тебе сейчас что нужно? Тебе нужно получить ассигновку. Ну, ты ее и получишь.
– Не задержали бы только, – беспокоился Николай Ардальоныч. – Мне главное – получить ассигновку сейчас же, иначе я сел.
– Почему же ты сядешь? Дорогой мой! А я-то для чего же существую на свете? Ассигновка целиком зависит от генерала, а генерал мне доверяет слепо. Кроме того, дело твое – дело чистое, честное и для министерства выгодное. Чего же тебе волноваться?
– Я сам знаю, что дело чистое, да ведь вот, говорят, что без взятки нигде ничего не проведешь, а я взятки никому не давал.
– Это покойный Купфер взятки брал, а с тех пор, как я на его месте, ты сам понимаешь, об этом и речи быть не может. Генерал – честнейший человек, очень щепетильный и чрезвычайно подозрительным Ну, да ты сам увидишь. Приходи завтра к двенадцати. Но прошу об одном: никто в министерстве не должен знать, что мы с тобой – друзья. Не то сейчас пойдут разговоры, что вот, мол, Мигунов за своих старается. Еще подумают, что я материально заинтересован.
На другое утро Николай Ардальоныч в самом радужном настроении пришел в министерство.
– Здравствуй, Лаврюша!
Мигунов весь вспыхнул, покосился во все стороны и прошептал, не глядя на приятеля:
– Ради Бога, молчите! Ни слова! Выйдем в коридор.
Николай Ардальоныч удивился. Вышел в коридор.
Минуты через две прибежал Лаврюша.
– Ну, можно ли так! Ведь ты все дело погубишь! «Лаврюша! Здравствуй!» Ну, какой я тебе тут «Лаврюша»?! Ты меня знать не знаешь.
Николай Ардальоныч даже обиделся:
– Да что, ты меня стыдишься, что ли? Что же, я не могу быть с тобой знакомым?
Лаврюша тоскливо поднял брови.
– Господи! Ну как ты не понимаешь? Я, может быть, в душе горжусь знакомством с тобой, но пойми, что здесь не должны об этом знать.
– Право, можно подумать, что ты какую-нибудь подлость сделал ради меня. Ну, будь откровенен: тебе пришлось твоему генералу наплесть что-нибудь?
– Боже упаси! Вот на прошлой неделе дали Иванову ассигновку, – так я прямо советовал генералу не упускать этого дела. Искренно и чистосердечно советовал. Потому что я – человек честный и своему делу предан. С Ивановым я лично ничем не связан. Я и рекомендовал, как честный человек. А, согласись сам, как же я могу рекомендовать твое дело, когда я всей душой желаю тебе успеха? Ведь если генерал об этом догадается, согласись сам, ведь это – верный провал. Тише… кто-то идет.
Лаврюша отскочил и, сделав неестественно равнодушное лицо, стал ковырять ногтем стенку.
Мимо прошел какой-то чиновник и несколько раз с удивлением обернулся.
Лаврюша посмотрел на Николая Ардальоныча и вздохнул:
– Что делать, Коля! Я все-таки надеюсь, что все обойдется благополучно. Теперь иди к нему, а я пройду другой дверью.
Генерал принял Николая Ардальоныча с распростертыми объятиями.
– Поздравляю, от души поздравляю. Очень, очень интересно. Мы вам без лишних проволочек сейчас и ассигновочку напишем. Лаврентий Иваныч! Вот нужно вашему приятелю ассигновочку написать…
Лаврюша подошел к столу бледный, с бегающими глазами.
– К-какому при… приятелю? – залепетал он.
– Как какому? – удивился генерал. – Да вот господину Вербину. Ведь вы, помнится, говорили, что он – ваш друг.
– Н-ничего п-подобного, – задрожал Лаврюша. – Я его не знаю… Я не знаком… Я пошутил.
Генерал удивленно посмотрел на Лаврюшу. Лаврюша, бледный, с дрожащими губами и бегающими глазами, стоял подлец подлецом.
– Серьезно? – спросил генерал. – Ну, значит, я что-нибудь спутал. Тем не менее, нужно будет написать господину Вербину ассигновку.
Лаврюша побледнел еще больше и сказал твердо:
– Нет, Андрей Петрович, мы эту ассигновку выдать сейчас не можем. Тут у господина Вербина не хватает кое-каких расчетов. Нужно, чтобы он сначала представил все расчеты, и тут еще следует одну копию…
– Пустяки, – сказал генерал, – ассигновку можно выдать сегодня, а расчет мы потом присоединим к делу. Ведь там же все ясно!
– Нет! – тоскливо упорствовал Лаврюша. – Это будет не по правилам. Этого мы сделать не можем.
Генерал усмехнулся и обратился к Николаю Ардальонычу:
– Уж простите, господин Вербин. Видите, какие у меня чиновники строгие формалисты! Придется вам сначала представить все, что нужно, по форме…
– Ваше превосходительство! – взметнулся Николай Ардальоныч.
Тот развел руками.
– Не могу! Видите, какие они у меня строгие.
А Лаврюша ел приятеля глазами, и зрачки его кричали: «Молчи! Молчи!».
В коридоре Лаврюша нагнал его.
– Ты не сердись! Я сделал все, что мог.
– Спасибо тебе! – шипел Николай Ардальоныч. – Без тебя бы я ассигновку получил…
– Дорогой мой! Но ведь зато ему теперь и в голову не придет, что в душе я горой за тебя. Сознайся, что я – тонкая штучка!
А генерал в это время говорил своему помощнику:
– Знаете, не понравился мне сегодня наш Лаврентий Иваныч. Оч-чень не понравился! Странно он себя вел с этим своим приятелем. Шушукался в коридоре, потом отрекся от всякого знакомства. Что-то некрасивое.
– Вероятно, хотел взятку сорвать, да не выгорело – вот он потом со злости и подгадил, – предположил генеральский помощник.
– Н-да… Что-то некрасивое. Нужно будет попросить, чтобы этого бойкого юношу убрали от нас куда-нибудь подальше. Он, очевидно, тонкая штучка!
Маленькая учительница села Недомаровки переписывала с черновика письмо.
Она очень волновалась, и лицо у нее было жалкое и восторженное.
– Нет, он не будет смеяться надо мной! – шептала она, сжимая виски вымазанными в чернилах пальцами. – Такой великий, такой светлый человек. Он один может понять мою душу и мои стремления. Мне ответа не надо. Пусть только прочтет обо мне, о маленькой и несчастной. Я, конечно, – ничтожество. Он – солнце, а я – трава, которую солнце взращивает, но разве трава не имеет права написать письмо, если это хоть немножко облегчит ее страдания?
Она перечитала написанное, тщательно выделила запятыми все придаточные предложения, перекрестилась и наклеила марку.
– Будь, что будет! Петербург… его высокоблагородию писателю Андрею Бахмачеву, редакция журнала «Земля и Воздух».
* * *
В ресторане «Амстердам» было так накурено, что стоящий за стойкою буфетчик казался порою отдаленным от земли голубыми облаками, как мадонна Рафаэля.
Бахмачев, Козин и Фейнберг пили коньяк и беседовали.
Тема разговора была самая захватывающая. Волновала она всех одинаково, потому что все трое были писатели, а тема касалась и искусства, и литературы одновременно. Одним словом, говорили они о том, что актриса Лазуреводская, по-видимому, изменяет актеру Мохову с рецензентом Фриском.
– Болван Мохов! – говорил Бахмачев. – Отколотил бы ее хорошенько, так живо бы все Фриски из головы выскочили.
– Ну, это могло бы ее привлечь к Мохову только в том случае, если она садистка! – заметил Фейнберг.
– Причем тут садистка? – спросил Козин.
– Ну, да, в том смысле, что если бы ей побои доставляли удовольствие.
– Так это, милый мой, называется мазохистка. Берешься рассуждать, сам не знаешь о чем!
– Ну, положим, – обиделся Фейнберг. – Ты уж воображаешь, что ты один всякие гадости знаешь.
– Да уж побольше вас знаю! – злобно прищурил глаза Козин.
– Плюньте, господа, – успокоил приятелей Бахмачев. – Кто усомнится в вашей эрудиции! А где Стукин?
– Не знаю, что-то не видно его.
– Он вчера так безобразно напился, – рассказывал Бахмачев, – что прямо невозможно было с ним разговаривать. Я, положим, тоже был пьян, но, во всяком случае, не до такой степени.
– Он уверяет, между прочим, что ты свою «Идиллию» у Мопассана стянул.
– Что-о? Я-а? У Мопассана-а? – весь вытянулся Бахмачев. – Что же общего? Откуда? Пусть, наконец, укажет то место.
– Уж я не знаю. Говорит, что у Мопассана.