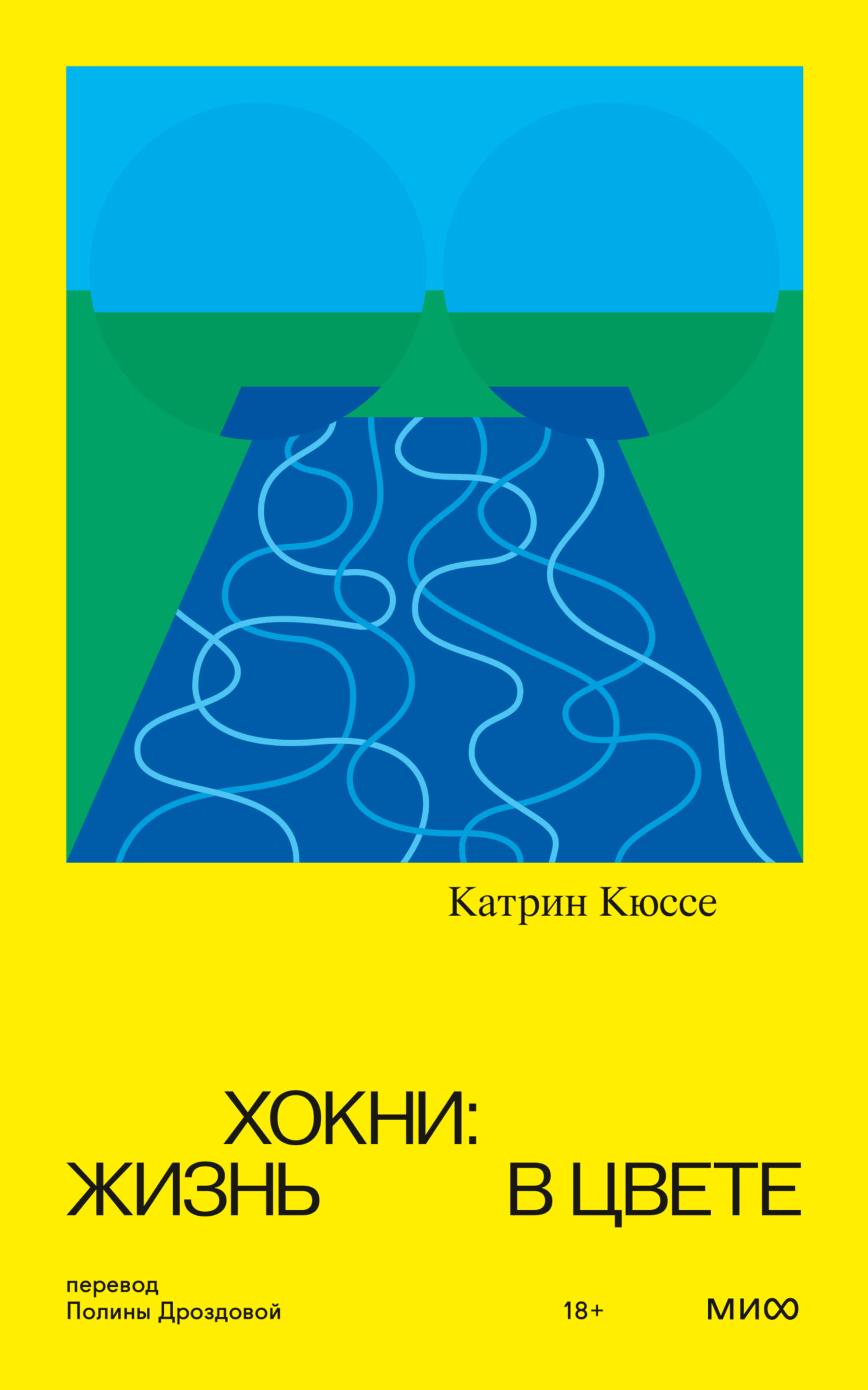музыку начала XX века, включавшим балет Сати «Парад», декорации к которому при первой постановке, в 1917 году, были сделаны Пикассо, – «Груди Терезия» Пуленка и «Дитя и волшебство» Равеля; все три части объединялись под общим названием «Парад». Эта была его третья опера и первая – в Америке. Он все еще не нашел решения для своей большой картины, и ему надо было отвлечься. Писать декорации было легче, чем картины: достаточно несколько часов подряд слушать оперу и дать волю своему воображению. Музыка сама диктовала цвета и формы. Работать было тем более приятно, что постановщик из Нью-Йорка заказал для него макет сцены Метрополитен-опера, оборудованный миниатюрной системой колосников, тросов и даже освещением.
Этот макет доставил большую радость Байрону, приехавшему на рождественские каникулы в Лос-Анджелес вместе с матерью и Лорой. Подростка восхищало все: и новый дом, спрятанный в густой зелени, привлекавшей енотов, опоссумов и оленей; и бассейн фасолевидной формы, где он плескался с утра до вечера, испуская радостные вопли; и вечно теплая погода, позволявшая ему купаться в декабре; и особенно – невероятная игрушка, благодаря которой Дэвид испытывал свои задумки для постановок, предлагая их немногочисленной привилегированной публике. Теперь у него на подхвате был новый четырнадцатилетний помощник – и Грегори, устав от почти ежедневного повторения спектакля, был рад такой замене. На Рождество Дэвид, в восторге оттого, что наконец кто-то рядом с ним разделяет его самую большую страсть, повез Байрона в Диснейленд. Они побывали на огромном количестве аттракционов, закончив самым любимым Дэвидом – «Пиратами Карибского моря». Когда их лодка резко опустилась в темноту и среди звона цепей кто-то дотронулся до их лиц, испуская зловещие звуки, мальчик завопил и крепко вцепился пальцами в руку Дэвида, который тоже кричал – но от радости, а не от ужаса, потому что знал маршрут наизусть. И когда двадцать минут спустя они вернулись к двум своим англичанкам: сребровласой и рыжеволосой, – сидевшим на лавочке, где они их оставили, и Байрон бросился к матери, крича, что ей обязательно нужно туда пойти, что это совсем не страшно, Дэвид улыбнулся. Он прежде не думал о детях, да у него и времени не нашлось бы заниматься их воспитанием, но если бы все же ребенок случился, то он хотел бы, чтобы он был как Байрон: живой, любопытный, открытый и восприимчивый. Чуть позже, когда на закате дня они направлялись к выходу из парка – дамы друг с другом под руку и впереди них Дэвид с Байроном, лакомившиеся сахарной ватой, – Энн вдруг расхохоталась: «Да вы просто два сапога пара! Я спрашиваю себя, кто из вас моложе!» Больше польстить ему было трудно. В конце их двухнедельного пребывания, которое пролетело как миг, он пообещал Байрону, что в следующий приезд свозит его на Гранд-Каньон. Глаза мальчика загорелись. Он повернулся к матери.
– Мы можем вернуться сюда на Пасху?
Взрослые засмеялись.
– Ну спасибо, Дэвид. Теперь мне каждый день придется слушать этот же вопрос. Солнышко, я хочу обратить твое внимание, что мы в этом году приехали уже второй раз и Лос-Анджелес от нас вовсе не в двух шагах! К тому же ты проводишь каникулы на Пасху со своим отцом.
– На твое пятнадцатилетие, Байрон!
– Но это еще так не скоро!
Дэвид был огорчен, что они уезжают.
По дороге в Англию, несколько месяцев спустя, он задержался в Нью-Йорке, где незадолго до этого в MoMA – Музее современного искусства – открылась большая ретроспективная выставка Пикассо. Работы испанского художника занимали там сорок восемь залов. Рисунки, гравюры, офорты, картины, скульптуры – здесь было представлено все и за все периоды: «голубой», «розовый», период кубизма… Размах выставки ошеломлял. Это было, как если бы Пикассо вдруг изобразил все содержимое Лувра, как если бы он одновременно был Пьеро делла Франческой, Вермеером, Рембрандтом, Ван Гогом и Дега. Он был гением. Творчество его было бесконечно, во всех смыслах этого слова. В течение пяти дней, проведенных Дэвидом в Нью-Йорке, он ежедневно возвращался в MoMA; особенно его поразила одна картина 1951 года, которая прежде была ему незнакома, – «Резня в Корее», написанная Пикассо в разгар корейской войны, под влиянием картин «Третье мая 1808 года в Мадриде» Гойи и «Расстрел императора Максимилиана» Мане. На картине изображена группа женщин и детей с искаженными от ужаса лицами, стоящих перед солдатами в масках, похожими на роботов, которые готовились их убить. В этом полотне сочеталось все, что было важным для Дэвида: совершенная композиция, отсылка к другим значительным произведениям, дух времени, человечность и важность сюжета.
Ему должно было исполниться сорок три. Он был в середине своего жизненного пути. Но что он сделал после своей ретроспективной выставки в галерее Уайтчепел, со времени которой – 1970 года – прошло уже десять лет? Конечно, он много работал. Множество рисунков и гравюр, декорации к постановкам трех оперных спектаклей, но сколько он написал картин? Хотел ли он остаться в истории только как художник-график или художник-декоратор?
Выставка придала ему слишком много позитивной энергии, чтобы он чувствовал грусть или беспокойство. Острое желание работать проникло в кровь и билось в жилах. Приехав на лето в Лондон, он с невероятной скоростью написал шестнадцать картин на тему музыки, навеянных его театральными декорациями. Его обуревало только одно желание: вернуться в Калифорнию, где его меньше дергали, и снова взяться за свою большую картину.
В день возвращения ему позвонил режиссер-постановщик и сообщил, что из-за забастовки в Метрополитен-опера представления трехактного спектакля, над которым он работал с такой радостью и воодушевлением, откладываются и могут вообще отмениться. В отвратительном настроении он переступил порог мастерской и взглянул на «Бульвар Санта-Моника» в надежде, что за лето достаточно отстранился от этой работы, чтобы теперь понять, что в ней не так.
Картина показалась ему абсолютно безжизненной. Просто кошмаром.
В углу мастерской он заметил небольшой холст, написанный им когда-то абы как, на скорую руку, без всякой цели – просто чтобы попробовать новые для него акриловые краски. Изображение какого-то случайного каньона на этом холсте показалось ему более живым и интересным, чем грандиозное творение, над которым он работал вот уже почти два года. Чтобы подстегнуть его писать побыстрее, Генри как-то сказал, что нет никакой связи между временем, затраченным на работу над произведением искусства, и конечным результатом. Что ж, в который раз он оказался прав.
Стремительно обернувшись к помощнику, Дэвид ткнул пальцем в «Бульвар Санта-Моника»: «Убери ее отсюда, пожалуйста. Можешь ее выкинуть».
В эту ночь он не спал. Ворочался в постели, спрашивая себя: как можно было провести над картиной целых полтора года и прийти к выводу, что она никуда не годится? Он полностью переделал «Портрет художника» и картину «Мои родители». Но «Бульвар Санта-Моника» безнадежен, он был уверен в этом. Может, он взялся за эту картину по неверным соображениям: ему просто хотелось создать грандиозное полотно? Не стало ли его расставание