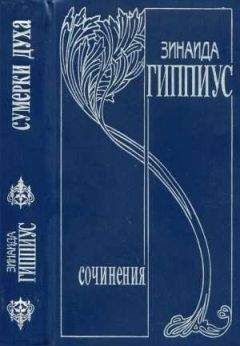– Господин Ласточкин были, – сказал Петр.
Дама ахнула, что-то пробормотала и побежала наверх.
Петр хотел было воротиться к столику, но дверь опять застонала. Влетели два правоведа, розовые и неприятные. Они жеманились и хохотали.
– Будем спрашивать, дома ли?
– Нет, не стоит! Ведь сама назначила! Запирай же дверь!
– Ну вот, швейцар запрет! Швейцар, звонок в двадцать пятый!
И они. побежали мимо. Через мгновение их взвинченные, носовые голоса раздавались уже высоко на лестнице. Петр поглядел им вслед и позвонил в двадцать пятый.
Вернуться к чаепитию на этот раз не пришлось.
Каждую минуту скрипела дверь, входил кто-нибудь, свой или посторонний, один или несколько сразу, молча или с громкими разговорами, которых обрывки слышались не слушая – и все проходили мимо, мимо, наверх и сверху, а Петр машинально, следя глазами за их движением, запирал и отворял дверь, всходил тяжело на три ступеньки и нажимал белую пуговку звонка, одинаково давая знать о приходе своего и чужого, знакомого и родного.
А за окном в переулке нахмурилось, и пошел теплый дождь, гладко обмывая большие выпуклые камни мостовой. Грязные капли падали с железного навеса над входом в мелочную лавочку.
II
У Петра и Аксиньи детей не было, но жила несколько лет подряд девочка, приемыш, сиротка с Петербургской стороны. Взята она была уж немаленькая, и хотя и Аксинья и Петр очень любили ее, и она звала их дяденькой и тетенькой, – однако настоящей связи между ними не было, да и девочка попалась со своим характером, мало к старикам подходящим. Подросла, вертушка такая стала, в горничные все хотела идти, да благо подвернулся человек – замуж выдали. Выдали хорошо, не пожалели, и свадьбу справили, и наградили.
Петр три дня все ходил – радовался, все по-хорошему, и девка пристроена, и вольнее как-то о себе подумать, на заветное дело денежки прикапливать. Все знали, что Петр копит особливые деньги, много лет уж копит, а как скопит, сколько ему надобно, то сейчас и уедет на родину.
Феня, воспитанница, хоть не очень часто, а все же заходила к дяденьке. Сидела она в швейцарской и теперь на сером впавшем диване, за столиком против Петра и Аксиньи Филипповны. Опять пили чай, только теперь Петр мог не вставать каждую минуту, потому что одна половинка дверей стояла настежь, и люди проходили мимо без стонущего скрипа заржавленных петель. Было совсем тепло, даже жарко. Лето пришло незаметно и невероятно скоро. Несмолкаемый грохот колес по камням несся в открытую дверь. Грохот колес о камни – это не один какой-нибудь звук, хотя бы продолжительный. Это много кратких и часто рассыпавшихся стуков, круглых и твердых, и люди слышат их не только через уши, но и сквозь кость черепа.
Когда по переулку проезжали ломовики на широких колесах, то остов дома кратко и тяжело содрогался.
Из окна швейцарской виднелись только камни: близкие, большие камни мостовой, тумбы, плиты тротуара и каменный угол дома. Земли нигде не было, но земля проступала между круглившимися камнями мостовой серой, легкой, едкой пылью. И пахло пылью, горячим камнем на солнце, и хлебом из мелочной лавочки.
– Хорошо живу, говорить нечего, – бойко тараторила Феня, прикусывая сахар. – Второй год пошел, как вышла я, а чего лучше? Ревнив, конечно, ну, да ведь нельзя без этого. А чтобы он меня пальцем когда – ни-ни! Обращенье самое деликатное.
Феня была очень миловидна, со вздернутым носиком и завитыми волосами. Вообще она смахивала на петербургскую горничную, даже пришла в шляпке и шелковых перчатках. Только в бегающих карих глазках было что-то хитренькое и неприятное.
– Ужасно, ужасно у вас тут, дяденька, место невеселое! – продолжала она. – Просто неинтересно. И вообще подъезд не шикарный. Конечно, швейцарова должность неспокойная, да зато, если место бойкое, приятности много и процент можно хороший получить. Ну что мой Егор приказчиком был? Получай жалованье – и все тут. Как вышло место в швейцары по Невскому в эдакий дом прелестный – сейчас я ему посоветовала: бери, закрымши глаза, бери!
– Помещение у вас не очень, – сказал Петр.
– А что нам помещение? Мы целый день в швейцарской. Ребят нет.
– То-то вот нет!
– А на что их? По нонешнему времени, дяденька, это одна грязь и нечистота. Семейного швейцара, ежели дети, в приличном доме держать не будут. Ну, жена, да коли молодая – ничего. Нет, я на житье не жалуюсь. И процент идет хороший, и весело. Ах, тетенька! Какие по нашей лестнице сенаторы ходят! Две графини сколько раз мимо прошли! Настоящие. При дворе бывают. Эдакие изящные, – сказать вам не могу!
Аксинья Филипповна подумала.
– Да что ж тебе-то, коли они все мимо? – возразила она. – Мимо да мимо. Нешто не все равно, кто мимо ходит? У нас тоже всякий народ ходит.
Феня вспыхнула.
– Ну, у вас всякий, а у нас не всякий! Вы, тетенька, не можете судить по вашему необразованию. Нам же лестно, ежели кто высшего полета. Словом, я пока ни о чем и мечтать не могу, так все это по моим вкусам устроилось!
– Вот и слава Богу, – сказал Петр, покряхтывая. – Ты человек молодой. Тебе и идет веселье. А старым костям не до веселья, тишины да покоя хочется. В тихое пристанище, на родимую сторону тянет.
– Что ж, когда ж уезжаете? – небрежно спросила Феня, которая всегда очень мало интересовалась заветными мечтаньями дяди Петра. Награжденье свое она получила и ни на что больше рассчитывать не могла. – Еще поживете с нами, успеете уехать из Питера. Еще это когда!
Феня вертела головой, стараясь рассмотреть красивого приказчика на пороге мелочной. Филипповна не то задумалась, не то окаменела. Задумался и Петр над блюдцем с жиденьким чаем.
На ступени швейцарской поспешным шагом входила девушка, очень молоденькая, одетая скромно, в черной шляпке. Она вела за руки двух мальчиком, толстых, с капризными и неумными лицами.
Девушка и сама была скорее полна, чем худа, невысока ростом, очень свежа: под тонкой кожей на щеках так и стояла яркая кровь. Что-то нерусское было в чистых и милых чертах.
Девушка, видимо, спешила и волновалась. Она запыхалась, дети капризничали.
Петр встал из-за стола и подошел к звонкам.
– Что, устали? Нагулялись? – спросил он ласково. Девушка подняла на него благодарный взор.
– Да, Петр… – произнесла она тихо и тоже не совсем чисто. – Домой с детьми пора.
Она ушла. Петр обернулся и поглядел на улицу. Там, на тротуаре, мелькнула белая офицерская фуражка и нагловатое молодое лицо под ней. Феня тоже заметила офицера и сказала:
– Вот душка!
– Очень дерзкий, – произнес Петр, снова усаживаясь за стол. – Все пристает. Вот к этой барышне много пристает.
– А она из каких?
– А бонна она из двадцать третьего. Родом издалека откуда-то. Здесь в школе была, а недавно вот сюда к детям поступила.
– Бонна! – протянула Феня. – Нашего поля ягода. И ничего в ней нет на деликатный вкус.
– Хорошая барышня, – с удовольствием произнес Петр. – Тоже служит, тоже, небось, на свою сторону хочет. Несладко.
– Ну, я пойду, – сказала Феня, прилаживая желтую шляпку у зеркала – Егор, поди, заждался. Ему-то отлучаться нельзя – у нас строго. А вы как? Новый управитель у вас, слышно? Добрый?
– Ничего. Важный такой. Дочка у него… богатая, говорят, по матери. Англичане они, что ли, но только теперь вовсе как русские. Дочка всюду с ним, на руке виснет, присматривается, что ли. Судьбы-то не нашла, это, – ну так без дела.
– Чудеса! – обернулась Феня. – Красивая из себя?
– Нельзя этого сказать. Тоже и в летах. Худая. Лицо, это, со злобностью. А между прочим люди говорят, она для бедных все суммы жертвует.
– Эка, Господи, народу-то пустого! – вздохнула Феня. – Ну прощайте, дяденька, прощайте, тетенька. Счастливо вам. Спасибо, дяденька, спасибо, тетенька. Побывайте к нам. Полюбуйтесь на наше житье.
Она ушла. Аксинья Филипповна убрала чай. Петр полил цветы, умостил в уголок к окну, где в диване был уютный провал, кожаную подушку, надел толстые медные очки и развернул газету.
Филипповна тоже присела с чулком с другой стороны окна. Шел непрерывный сухой грохот и гул. Петр начал дремать. Он дремал и думал о родине. Он так часто думал о ней и так давно, что она перестала представляться ему чем-нибудь определенным и существующим. И эти родные мечты, покрытые точно дымком, паром каким-то, были ему сладки, близки, необходимы и давно привычны.
И Филипповна тоже думала, как они поедут на Петрову родину. Думала о коровке, лошадке, старалась вообразить озеро и сосны; а вместо того при слове «родина» – ей, совсем невольно, но неодолимо, представлялись зеленые поля, запах кашки и длинных трав, звонкий голос жаворонка высоко в безоблачном небе, полном солнечного воздуха, тягучая песня откуда-то издалека, тягучая и надрывная, безгранная, как зеленые поля, сладкая, как запах кашки. Тогда Филипповне хотелось плакать. И она, сквозь туманы мысли, спрашивала себя: было это или не было? Есть ли это или так все представляется?