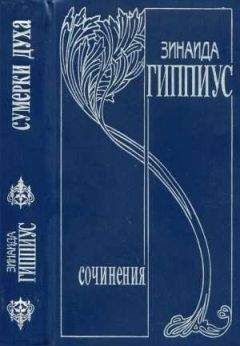Стояли утомительные майские ночи без сумрака, серые, тихие, когда все кажется затянутым редкой паутиной. Медленно, медленно подымается эта паутина с земли, с камней, виснет клочками на карнизах и углах зданий, не имея сил подняться выше, к светло-ясным, зеленым небесам. Внизу душно, камни остывают так тихо, чистота и прохлада только там, где уже нет пыльной паутины – над крышами домов.
Петр не спускался в каморку, а дремал на диване. Сквозь листы филодендронов в окно явственно виднелся каждый камень мостовой, тумбы и черный ненужный фонарь, незажженный. Было еще не поздно: только что вернулась Вера Ивановна, барыня из двадцать третьего, спросила, дома ли бонна, которую она послала за выкройками к сестре, и, узнав, что девушка еще не возвращалась – страшно изумилась и разгневалась.
Последнее время Петр не разговаривал с «милой барышней». Она пробегала мимо него испуганная, торопливая, печальная, да и сам он не останавливал ее с прежней лаской, у него тоже сердце сосала тоска. Теперь он вспомнил ее «житье», опять пожалел ее, бедную, на чужой стороне – и задумался.
Пробило половина двенадцатого, когда дверь отворилась срыву, ударившись о стену, и молодая девушка, с смятым пакетом в руках, не вошла, а вбежала в швейцарскую. Петр вскочил. В дверях стоял тот самый офицер в белой фуражке, и Петру показалось, что он произнес несколько очень оскорбительных слов вдогонку убегающей. Петр хотел подойти к офицеру – но того уж не было, хотел заговорить с девушкой – но взглянул ей ближе в лицо – и отступил: оно было бледное, странное, с белыми губами. Люди, когда у них такие лица, уже не могут говорить с другими людьми.
Петр испугался и отошел молча. Девушка исчезла на повороте лестницы, – а у него все на сердце было тяжело и неспокойно. Он опять сел в угол у окна, но заснуть уже не мог, а смотрел на беловатую улицу и ждал, когда можно будет потушить тусклую лампу в швейцарской.
Вдруг что-то толкнуло Петра в самое сердце, – ужас или изумление, – но только это было раньше, на полмгновенья раньше, чем он увидел и услышал то, что случилось. Он услышал женский визг, короткий, но острый, неожиданный в тишине, и увидал, как мимо окна, сверху, задев железный лист подъезда, мелькнула большая черная масса и упала на серые выступы мостовой грузно и тяжело, как нетуго завязанный мешок.
Петр вскочил, всплеснул руками, хотел бежать – и не мог бежать, только засуетился, заметался, не зная, куда кинуться. Он сразу понял, в чем дело. На лестнице начался шум, возгласы. Кричали и барыня, и барин, сбежала горничная.
– Черт знает что!.. – кричала барыня скрипуче и пронзительно. – Ночью! Из детской окно отворила, и ни слова не говоря… С третьего этажа… Подумайте только!
С лестницы бежали и бежали. Петр бросился, наконец, вон. Около упавшей, несмотря на довольно поздний час, собрались люди. Два солдата из соседних казарм, мещанин, поздний прохожий, дворники и городовой. Девушка лежала неловко на спине, с подвернувшейся рукой. Лицо казалось совсем таким, каким Петр его видел несколько минут назад, только глаза были закрыты. Серая паутина ползла по этому лицу, и нельзя было понять, персть ли земная уже начала покрывать его черты – или это свет бледной ночи затенял равно лица и живых и мертвых. Кто-то наклонился над телом.
– Жива еще. Дышит.
– Жива? Так чего стоите? Подымай ее. Доктора, что ль? Куда ее, наверх снести аль в больницу?
– В больницу! В больницу! – раздался надрывистый голос Веры Ивановны, которая держалась в сторонке. – Ах, я не могу! Такой ужас, ужас!
С барыней началась истерика. Горничная убеждала ее идти наверх. Барин остался распоряжаться.
Петр так растерялся, что едва понимал, когда к нему обращались. Он видел, как привели извозчика, с трудом подняли тело, которое опускалось с рук. Сели на извозчика и ее взяли с собой. Петр видел белую свесившуюся руку и закинутую голову с закрытыми глазами. Потом извозчик задребезжал, колеса с резким сухим треском запрыгали по большим камням – и больше ничего. Люди расходились.
– Жива-то жива, – сказал кто-то, – а только навряд… С третьего-то этажа… И летела, говорят, так билась… Нет, навряд.
Петр махнул рукой и посмотрел в серую мглу переулка, куда увезли «милую барышню».
– Уехала! – сказал он горько. Рядом стояла Филипповна и плакала. – Уехала. Вот, подумать, давно ли говорила: «Уехать бы мне, Петр, далеко-далеко!» Вот и уехала. А я, это, думал – она от житья. Житье плохое. А она – Господь ее знает, отчего! Так уж ей все округ претило.
Он взглянул на камни, о которые разбилась милая барышня. Они были все такие же, откровенно твердые, большие, выпуклые. Ни капли крови не осталось на них. Петр подумал, что они-то ни в чем не виноваты и что она сама любила камни.
В эту ночь Петр не сомкнул глаз. И ноги болели, и так стало нездоровиться.
V
– Петра, а Петра! – позвала Аксинья Филипповна, услышав, что муж вернулся. – Давича, когда ты в лавочку уходил, тут Марья Генриховна тебя спрашивала. Я говорю – в лавочку побежал за порошком, к Троице хочет дверные ручки почистить, а она, это, усмехнулась и говорит: ишь, говорит, какой усердный! Всякое, говорит усердие Богом награждается. Так и сказала, вот не сойти! И еще сказала, что в четвертом часу зайдет, передать, мол, ему мне что-то нужно.
Петр охнул.
– Что это там еще нужно? Мало управителя – еще управительница объявилась! Ну, что это, например, такое? Житья не стало. Двадцать семь лет жили – на двадцать осьмой нет житья. Ни спокою тебе, ничего. Ну, да много отстрадали, недолго осталось. Опостылела, это, тоже чужая сторона. Кабы не знатье, что оттерпишь – да и с концом, так я…
– А ты молчи, – сказала Филипповна строго. – Чего разворчался? Очень ты, Петра, стал… неудобный какой-то. Все неладно.
– Поясницу ломит да ноги.
– А ты присядь.
– Присяду. Дверь-то настежь можно оставить. Только две недели прошло с последнего происшествия, а весны уже не было – было полное, жаркое, сухое и душное лето. В густом воздухе еще тяжелее грохотали колеса, еще громче шел их гул, стиснутый разогретыми стенами. Теплым хлебом, пылью, железом и людьми пахло на улицах. Вверху шли летние, тонкие облака, но они были слишком высоко. Из окна швейцарской, с того места на диване, где сидел Петр, и совсем не было видно неба, а только красный дом и мелочная лавочка в подвале.
Проходящие мимо не мешали Петру. Многие даже знали, что у него болят ноги, и сами звонили к себе наверх. Но когда, ровно в четыре часа, на пороге появилась Марья Генриховна – Петр приподнялся ей навстречу с доброй улыбкой. Он отдохнул, раздумался и ему пришло в голову, что, пожалуй, и Марья Генриховна хорошая барышня, и что напрасно он так разворчался.
Марья Генриховна была не одна, а с отцом. Петр снял фуражку и стоял перед ними, продолжая улыбаться.
– Здравствуй, Петр, – сказал управляющий. – Как здоров?
– Да ничего, благодарим покорно, ничего. Только ноги вот не… Да поясница… А то ничего.
– Ну, а старуха твоя где? – продолжал управляющий ласково. – Ее бы тоже нам.
– Нет ее, где-то! – развел руками Петр и рассмеялся. – И куда запропастилась? Давно уж запропастилась. Угодно приказать ей что?
– Не приказать… Ну да ничего. С ней потом можно потолковать. А скажи ты мне, Петр, ты, говорят, на родину собираешься, деньги копишь… Не очень много, я думаю, накопил? А тянет тебя на свою-то сторону?
Петр не очень любил разговаривать об этом по-пустому, но теперь он был в добром настроении, улыбнулся, вспомнил все мысли и сказал:
– Да уж чего там! Много, это, думается. Главное – хорошо очень. Водность, это, ветры, эдакие, широкие, ну, потом, народ тоже… Думается много. Потихоньку, помаленьку, коли Бог поможет, соберем…
– Ну, а кабы сразу тебе Бог послал деньги настоящие, рад бы ты был? А? Если б сказали тебе: вот, Петр, твоя родина! Что бы ты?
Петр махнул рукой.
– Этак Господь не посылает. Надо с терпением да с молитвой. Вот скоплю – увижу ее. Хорошо, это, там больно.
– Видишь, Петр, видишь, – не утерпела Марья Генриховна, – вот ты и не прав. Иногда случаются неожиданности..
Отец, которого она сама просила объявить все Петру вместо нее, чтобы было торжественнее, – перебил ее и сказал:
– Петр, мы пришли тебе сказать следующее. Барышне угодно было принять в тебе участие, поощрить твою честность, усердие. Ты слуга примерный. И она решила сразу пополнить всю недостающую тебе сумму – ну сколько там нужно на дорогу, на обзаведение… Хоть завтра можешь ехать на родину.
Петр растерянно огляделся, улыбаясь, всплеснул руками.
– Господи! Как же так? Сразу, это, значит, всю сумму? И все это я, значит, могу… Господи, благодетели…
– Ты вполне заслужил это, Петр, – подхватила торжествующе Марья Генриховна. – Я рада за тебя. Сейчас же можешь начать собираться. Как соберешься, так и ехать. О деньгах не беспокойся.