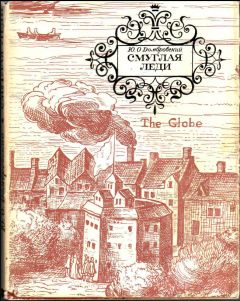— А доктор? — спросил Гроу.
— А что доктор? — ухмыльнулся парень. — К доктору тоже без денег не суйся. Он задаром тебе и пук сухой травы не даст. Ну конечно, если ты ему что сделаешь, — ну, коня подкуешь или там стальные усы к шкатулке, — он заплатит. Сколько спросишь, столько и даст. Мелочности этой бабьей у него нет. Ну конечно, все-таки как-никак, а мужчина! Но ведь жена, жена… Ух! И рыжий покачал головой.
— А что жена? — спросил Гроу.
Рыжий поглядел на него.
— Нет, вы правду говорите, что не родственник?
Гроу пожал плечами.
— А хотя бы и родственник был, я ведь правду говорю! — решил рыжий. Вся в матушку пошла. Какой матушка была необузданной, такой и дочку вырастила! Как что — кричит, шваркает! Не подходи! — И он значительно поглядел на Гроу.
— А откуда вы знаете? — спросил Гроу.
— Вот! — усмехнулся он. — Откуда я знаю! Да весь город знает! У них знаете какие войны бывают? Доктор, например, ехать собирается, лошадь седлает, а она из окна ему кулаком грозит, слюной брызжет: «А я знаю, куда ты едешь! Знаю!» А что она знает? Знай не знай — он свое дело делает.
— А отец? — спросил Гроу.
— Хозяин-то? Он в эти дела никогда не мешается! Как будто и не знает ничего! Да они при нем и не шумят. Доктор-то его уважает. Ну как же, такого человека-то! А в особенности, конечно, теперь! Сейчас они и день и ночь от него и не вылезают — ждут!
— Чего?
— Как чего? — удивился рыжий. — Стать хозяевами ждут. Ведь старый-то хозяин не сегодня-завтра… того… перед престолом Господа Бога… — И вдруг спохватился. — Нет, вы правда оттуда? Как же вы… тогда ничего не знаете?
— Да я только вчера сюда приехал, — объяснил Гроу.
— Ну, если вчера приехали, то конечно, — смягчился рыжий. — А хозяина уже видели? Что? Сильно плох? Или к нему не пускают?
— Да нет, видел. Нет, не так чтоб уж очень плох, сказал Гроу. — Я заходил к нему, он лежит, смеется, разговаривает.
— Да это он всегда смеется, — объяснил парень и поднял свою кружку. Ну, за здоровье! Это он, студент, всегда смеется! Я его ведь вот с этих пор помню. Мальчишкой был, так помню, как он на коне приезжал.
— Так вы, значит…
— Ну еще бы! С детских лет! Так он всегда смеется!.. Вот прошлым летом ходил он, гулял и зашел к дяде моему, в кузницу. А дядя мой его только на два года моложе. Насчет каких-то замков они потолковали. Он говорит: зайдешь, мол, завтра, посмотришь, сговоримся. Дядя его оставлять стал. «Нет, говорит, тороплюсь». Простился, подошел к двери, хотел ее толкнуть, да как грохнется! Почернел, напрягся и все воздух, воздух ртом, как рыба, хватает, а грудь-то так и вздымает, так и ходит волной, волной. Ну, дядя человек знающий, сразу по такому случаю берет его под мышки, я — за ноги, и вот кладем мы его на лежанку. Он лежит, а грудь все ходит, все ходит. И весь побагровел, и из глаз слезы, слезы, слезы. Дядя ему два раза лицо платками обтирал. Так он с час пролежал. Потом: «Дай, говорит, руку, хочу сесть». И сел. Дядя меня в погреб послал за медом, я сбегал, целый жбан принес. «Пей, Билл, — говорит дядя, — он у меня на мяте, целебный, сразу лучше станет». Он взял жбан в обе руки, а пальцы дрожат, и как впился в него, пил, пил, пил половину не отрываясь выпил. Встал, отряхнулся. «Спасибо, говорит, вылечил меня, ну, я пойду». Потом постоял, подумал и говорит: «А я о тебе вспоминал. У нас в театре хорошую балладу сложили о кузнецах — я найду, спишу тебе ее и покажу, на какой голос петь». А дядя-то мой когда-то первый запевала здесь у них был. Вместе к реке они все на троицу ходили. Дядя всех там одним голосом перебивал. Ну а сейчас, конечно, где ему петь. Он полуглухой стал в этой кузнице! «— Что ты, — говорит дядя, — я уж и тех лет не помню, когда я пел! Ты что, забыл, сколько прошло!» Тот смеется: «А ведь и верно, забыл». Дядя говорит: «Вот и я вижу, что забыл. Ты думаешь, что нам всем по двадцать лет». — «Нет, говорит, про себя я так не думаю. А вот на тебя посмотрел позавидовал, все у тебя в руках кипит, все горит огнем. Как ты был молодым, так и остался. А я вот от своей работы на покой запросился. Буду теперь нажитое проживать, прожитое вспоминать, у камелька кости греть да внучат на ноге качать. Вот такое теперь мое дело». И все улыбается, улыбается, так и ушел улыбаясь! Я вот говорю, что с малых лет его помню и никогда сердитым или хмурым не видел! А теперь вот умирает! Да! Теперь уже не пойдешь к их колодцу за водой! И запрут, и собаку спустят! В Нью-Плесе вода знаменитая, там колодец глубокий, до самого белого песка. Еще старый хозяин рыл. Да! Смерть — это тебе… — Он вдруг оглянулся, понизил голос и спросил: — А королевский указ…
— Что — королевский указ? — удивился Гроу.
— А! Значит, не открыли вам всего, — кивнул головой рыжий. — Есть у него королевская хартия на его имя. Что в ней — никто точно не знает, но только дает она большие привилегии на все, ему и его потомкам — кого он из них выберет. Вот из-за этого у них и спор, — парень опять оглянулся, наследника-то мужчины нет, одни дочки, у них и фамилия другая, вот они, значит, и сомневаются: подойдут под эту бумагу или нет? А если нет, то прошение надо писать королю, просить, чтобы признали. А вот будет он писать или нет — этого никто не знает. Рассердится да и не напишет. Вот и все. Вы про это ничего не слыхали?
— Нет, — сказал Гроу и поднялся. — Ну, спасибо за разговор. Пойду, а то хватятся. До свиданья.
— До свиданья, — кивнул головой рыжий. — Да не торопитесь, сейчас они вас не хватятся. Сейчас они все в одном месте собрались, обсели его, как мухи пирог, затаились, прихитрились и ждут, ждут…
«Да, — подумал Гроу, выходя на улицу. — Нет, недаром сказано: „Враги человека — его домашние“. Христос и в этом кое-что понимал».
Днем наверху, в комнате хозяйки, произошел какой-то, видимо, резкий, хотя и быстрый и очень негромкий, разговор. Потом миссис Юдифь вышла и прошла мимо него (он сидел на лавке около колодца). Лицо ее было в красных пятнах, а губы сжаты. Тонкие, недобрые губы Шекспиров. Около полуоткрытой калитки ее ждал человек, может быть, муж или родственник. Он спросил ее что-то, а она досадливо махнула рукой и прошла. «Стерва баба», подумал Гроу.
Затем вышел доктор Холл под руку со священником. Он, конечно, сразу же вскочил и поклонился. Доктор Холл как будто его и не заметил вовсе, но священник и еще раз оглянулся. Они сделали круг и сели на другом конце сада, и Холл начал что-то энергично говорить, разводя руками и доказывая. Священник слушал, — склонив голову и чертя что-то концом туфли. Потом вдруг вскинул глаза и что-то сказал, — оба они взглянули в его сторону. Затем немного поговорили еще, поднялись и прошли мимо, в дом. На этот раз Холл заметил его и кивнул очень ласково.
Затем во двор вышел Бербедж и подошел прямо к нему.
— Вас зовет мистер Виллиам, — сказал он… Шекспир, одетый, сидел в кресле и писал. Чернильница стояла рядом на стуле. Шекспир казался совсем здоровым — плотный, упитанный джентльмен средних лет, с большой лысиной и полными щеками. Вот только бледен он был очень. Когда они вошли, Шекспир взглянул на них, приписал еще что-то и протянул бумагу Бербеджу.
— Присыпь песком, — сказал он, — это, кажется, все, что надо.
Бербедж быстро оглядел записку и сказал:
— Этого, конечно, хватит, Билл. Теперь другое: что из этого у тебя сейчас есть и чего нет?
— Сейчас придет Харт, — сказал Шекспир и посмотрел на Гроу. — Коллега, вам придется вместе с племянником снести с чердака один сундук. Постарайтесь сделать это как можно незаметнее.
Виллиам Харт пришел через пять минут, и они пошли за сундуком. Оказывается, сундук находился как раз в той каморке, где Гроу ночевал. Небольшой темный и очень тяжелый дубовый ящик, окованный сизыми стальными полосами. Они вытащили его из-под кровати и стащили с чердака по узкой лестнице. Шекспир ждал их с ключом в руках. Они поставили ящик на стол, Бербедж взял у Шекспира ключ. Заимок был тугой. Крышка отскочила со звоном. На внутренней стороне ее оказалась большая, в полный лист, гравюра отречение Петра. Скорбящий Петр и над ним гигантский петух. «Наверное, Волк тоже видел это, — подумал Гроу, — потому и заговорил о петухе. А ведь Петр, пожалуй, и не скорбит. Он просто стиснул руки на груди и думает: „Ну какой же во всем этом смысл, Господи, если даже я — я тебя предал?“ А над ним вот — поднялся огромный, торжествующий петух».
Сундук был набит почти до краев. Бербедж приподнял кусок тафты, и Гроу увидел груду книг, тетради, синие папки, фолианты в кожаных переплетах.
— Вот тут все, — сказал Шекспир, — все, что у меня есть.
— И то, что не напечатано, сэр? — спросил Бербедж. — «Макбет», «Цезарь», «Клеопатра»?
— Все, все…
Бербедж взял первую папку и открыл ее. В ней лежала тетрадь, исписанная в столбик красивым, так называемым секретарским почерком. Буквы казались почти печатными, так любовно была выписана каждая из них.