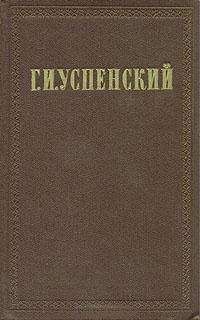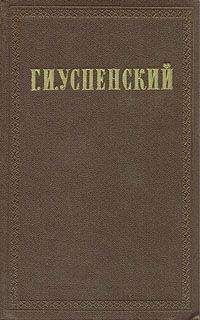Черемухин опустил голову и покачал ею.
— И тут я пал, братец ты мой!.. Если бы жив был отец, он бы еще снабжал деньгами, и я бы еще, быть может, "фигурировал"… Но ты вот говоришь "обмякло" — и я совсем "пас"! Ты, впрочем, не думай, что я один только такой… Массы, массы, друг любезный! — с тою разницею, что у одних больше моего гроша, а другие не совсем поняли свою обязательную смерть и врут или притворяются — не знаю! Есть и настоящие… ты встретишь — погоди!
Михаил Иваныч посмотрел искоса на Черемухина. Тот сидел молча; но спустя несколько времени как-то приободрился и сказал с улыбкой:
— Ты, однако, не думай, что я совсем никуда не гожусь…. и не расплачусь с тобой и с ней. (Он указал на бабу.) Государству теперь нужна бездна народу… Нужны учителя, лекаря… толпы рабочих людей… Нас не минуют!.. Будем где-нибудь наставниками, будем получать с мужиков жалованье, глядеть на разутые ноги детей, тосковать о собственной бесполезности, пить… Может быть, даже и умрем в глуши от водки… Чего же еще? Самый любимый литературный тип.
Проговорив это, Василий Андреич совсем ободрился, встал и, заложив руки в карманы брюк, несколько раз уверенною поступью прошелся по комнате; вся осанка его была такая, как будто бы он в самом деле "расплатился со всеми".
В этом последнем случае едва ли не была согласна и баба, сидевшая здесь. Длинный рассказ Черемухина видимо тронул ее: она почти не понимала, что такое он рассказывает; но если бы даже Василий Андреич говорил по-немецки, то и тогда баба сумела бы почуять, что это говорит человек несчастный.
— Ишь наговорил!.. — сказала она тихо-тихо, потому что чувствовала себя неловко. — Пришла ругаться, а теперь стало жалко… Умирать бы уж тебе, право!.. Ах, бедный-бедный!.. Толку-то нету никакого… денег-то, чай, нету? — разрешила она вдруг свое неловкое положение, хотя в голосе ее снова звучала суровость. — Свечи-то есть ли? Ишь огарки какие! Поди, ни чаю, ни сахару?
Черемухин ходил по комнате, не слушая ее и задумавшись.
Но баба, почувствовав сожаление и видя, что есть забота, не могла скоро разделаться с этими качествами своей души. Наволочки оказались грязными; вытащена была из-под кровати пара носок, чтобы дома вымыть и принести чистые. Сосчитаны были какие-то лоскутья белья, и оказалась пропажа. Все это тряпье баба собрала, сосчитала, спрятала, словом — проявила непомерную сердечную доброту, что немало изумило Михаила Иваныча.
— Ишь, как я об тебе! — слегка улыбаясь, сказала баба и вдруг сердито прибавила: — на, вот, три рубли, да смотри — не проверти! ты ведь пойдешь швырять… да отдай!
Черемухин все ходил, молчал и думал.
Баба еще порылась, положила на стол три рубля, еще поворчала насчет того, что "ходишь без калош… Сляжешь… кому ходить?.. Что мать-то к тебе не едет?.. Писал матери-то?.." и, еще раз окинув все пытливым взглядом, прибавила:
— Усни-ко, ишь зеленый какой!.. Спи! право, какие…
И ушла. Видно было, что действительно ей некого любить.
Михаил Иваныч сидел и думал. Как и баба, он не понял и десятой доли ничтожных, но все-таки весьма ощутительных страданий Черемухина, и злился, и не мог не жалеть Василия Андреича.
"Что это за люди! — думалось ему. — И жаль и, кажется, — убил бы… Тьфу!.."
1
Михаил Иваныч, исцеленный тяжкими страданиями своей заброшенной жизни от возможности понимать бесплодность нравственной муки, переживаемой людьми, подобными Черемухину, не понял почти ничего из его долгого рассказа; но мы все-таки воспользуемся сущностью этого рассказа, который может объяснить нам некоторые незначительные факты, происходившие в это время в покинутой им провинции.
Действующим лицом был известный нам барчук Уткин.
С первого взгляда Уткин, повидимому, совершенно не подходил к типу Черемухина; в нем не было ни одной из черт, так неприятно обрисовывающих Василия Андреича. Но это происходило оттого, что у Уткина, во-первых, была бабушка, снабжавшая его деньгами, и ему не было надобности наживать врагов, подобно Черемухину, не имевшему копейки, а следовательно, не приходилось становиться к людям в самые неприятные, враждебные отношения; не приходилось быть глубоко злым и разбирать самого себя с такой основательной злобой, как Черемухин. Была, стало быть, одна полусознательная скука, способность думать и действовать во множестве направлений сразу, не воспитав в себе жизненными впечатлениями никаких нравственных средств, чтобы быть "просто так" самим собою. Нам уже известно, что вечер "первого поезда", направивший размышления его в направлении "дела", привел его в квартиру Печкиных, где, несомненно, должно было быть "дело": это было видно весьма ясно из разговоров между супругами на бульваре и на улице. Все это, однако, не определило Уткину, какого рода прием следует ему принять при начале и продолжении этого дела, пока он не наткнулся случайно на черепки разбитой посуды, валявшиеся на полу. Это обстоятельство разрешило его затруднение.
— Так нельзя-с! — довольно сурово сказал он Павлу Иванычу.
— Господин доктор! — начал было Павел Иваныч. Но Уткин прервал его.
— Я не доктор-с! — с гордостью сказал он вслед Печкину, выбежавшему на новые поиски. — Тут не припадок, тут вопрос… Да-с! Так нельзя… Тут не в аптеку, а в полицию-с!..
— Да и впрямь связать его да с будочниками! — присовокупила кухарка, ползая со свечкой и с тряпкой по полу. — Ишь мудрует… муж!..
При помощи ползавшей по полу кухарки дело было разъяснено окончательно, и благодаря его совершенной ясности и полному убеждению, что стоит потратить себя на пользу ближнего, Уткин весьма подробно и резонно изложил перед Софьей Васильевной все, что относится к выгодам независимого куска хлеба. Изложено все это было с полным сочувствием; уверения в том, что "так нельзя", были обставлены весьма подробно, и главное — "независимая корка хлеба", как средство, могущее противостать против всевозможных жизненных преград, была выставлена в весьма привлекательном свете. Все это было сказано торопливо, под влиянием только что полученных впечатлений, но охота высказаться более и обстоятельнее быстро охватила все существо Уткина, и в конце речи он предложил Софье Васильевне еще раз перетолковать об этом деле, для чего и назначил особый пункт — городской бульвар, "завтра в три часа".
Софье Васильевне, ни от кого не слыхавшей фразы: "так нельзя", которая бы произносилась с такою уверенностью и сочувствием, все это было необыкновенно ново, а положение ее было таково, что выйти из него было необходимо. И средство к этому, в виде "корки хлеба", тоже оказывалось вполне возможным и осуществимым. Оставалось только знать мнение Нади, но так как и она не имела решительно ничего против возможности выйти на какую-нибудь надежную дорогу, то свидание с Уткиным и состоялось на следующий день на бульваре.
2
В три часа дня, когда бульвар обыкновенно пуст, а Павел Иваныч спит после обеда, в кустах на ступеньках старой губернаторской беседки, можно было видеть Уткина, Надю и Софью Васильевну. Все они испытывали какое-то новое ощущение и главным образом старались узнать, что из этого выйдет? Более всех это ощущение овладело Уткиным, так как он один из всех специально размышлял о том, что "вот новое дело", и он тут… и все ново, и т. д. Эти ощущения сделали его веселым, развязным. Он торопливо пощипывал маленькую бородку и говорил:
— Это дело такого рода-с, что… Сносить постоянные оскорбления… это…
— Я скорее готова корку хлеба! — говорила с самым искренним чувством Софья Васильевна.
— Корку! Разумеется, самостоятельная корка хлеба… — Здесь Уткин стал закуривать папироску и замолк.
— В самом деле, Сонечка так стеснена, — начала Надя, — что если бы какие-нибудь средства…
— Труд-с! — сказал Уткин, бросая спичку. — Стоит только пойти в первый двор, в первый дом и взять заказ белья… Корка хлеба, добытая честным трудом…
Но речь Уткина была прервана; Софья Васильевна, готовая идти в прачки, и в особенности Надя налегли на заказ белья с такой энергией, что в самое короткое время для Уткина предлежащее ему дело стало совершенно ясным. Оказалось, что ему нет никакой надобности разглагольствовать насчет достоинств корки, насчет необходимости свергнуть иго и проч. Нужно было одно: идти в первый двор и попросить заказ белья. Если бы Уткин был простой мужик, умеющий войти в первые ворота, остановить первую бабу и, назвав ее тетенькой или красавицей, прямо объявить ей в чем дело, то он бы так и сделал. Но у него были сотни разнородных взглядов на предмет, и поэтому, как только его дело обнаружилось вполне, вся серьезность и значение его поблекли. Уткин представил себе, как он, барчук, стоит среди двора и просит белья в стирку и как потом он идет с узлом. В голове его мелькнула мысль, что так не бывает, что это даже смешно. Он был совершенно согласен с тем, что это нужно, что это действительно так, и в то же время находил, что это — невозможная и смешная чушь.