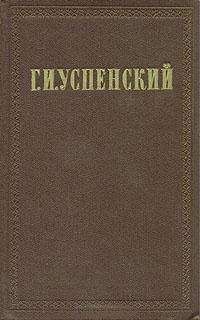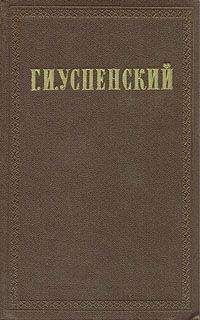Выработав такой взгляд относительно "нетрудящих людей", солдат крепко и стойко держался его, охотно принимая их в свои апартаменты. Узнать человека, имеющего намерение жить займами, не составляло для него никакого труда. Входит барин, барыня и двое детей и требуют комнату "получше": это значит, что барин и барыня настолько не обеспечены постоянным заработком, что не имеют возможности одолеть свою квартирку, хоть и похуже… Является хорошо одетый барин и требует комнатку рублей в пять: — это значит, что в настоящую минуту он не имеет в кармане и рубля… "Всем жить нужно, все достанут! займут!" — думает солдат и принимает их в недра своего жилья, записывая на стене мелом: за проход, за подожданье и проч. Все это изображено у него просто, в виде палок, которые, тем не менее, имеют для него каждая свой смысл и значение.
И вот уже два года нумера солдата населяются исключительно "нетрудящим" народом, народом злым, оскорбленным, вспоминающим прошлое и строящим блестящие планы насчет будущего. Так как костюм этого народа находится под залогом у того же самого солдата, то он обыкновенно сидит постоянно дома, в каморках без форточек, в душных облаках кофейного, кухонного и табачного дыма, лежит, ходит взад и вперед по своему логовищу, ведет долгие переговоры с хозяином-солдатом насчет бутылки пива, убеждает, грозит, пьет, вздыхает, напивается, поет, бушует и проклинает.
Михаил Иваныч, истощивший свой кошелек до последней возможности и не находя адреса Максима Петровича, обещанного Черемухиным, томился в неприветливых солдатских нумерах наравне со всеми их обывателями. Как и все, он курил, лежал, злился, шатался по коридору, заходил в кухню, смотрел на проходящего по двору мужика и думал: "куда он идет?" и, повинуясь внезапному взрыву злости, снова в ажитации шатался по коридору и по своей норе.
Среди этой тоски и томительных скитаний Михаил Иваныч незаметно перезнакомился со всеми обывателями солдатских нумеров, все они на первых порах возбуждали в нем некоторую долю сострадания и совершенно сходились с ним в положении. Все они одинаково были согласны, что человек живет неправдою, что истинные достоинства ставятся ни в грош и что хорошо жить на свете могут лишь люди гнусные. Так говорили все вообще жильцы: и толстый человек в угольной каморке, говоривший по-французски, и маленький человек неизвестной профессии, жаловавшийся на жену, и другой человечек, покинутый женою, и женщина, жаловавшаяся на тирана мужа, от которого она ушла, словом — все. Все это бередило раны сердца Михаила Иваныча, доводило его тоску до последней степени и заставляло на последние гроши угощать этих несчастных людей пивом. Но после двух или трех приятельских бесед за бутылкой все эти лица принимали в глазах Михаила Иваныча совершенно другой вид. Толстый человек, под хмельком вспомнивший старину, вдруг выходил каким-то ненасытным хватателем взяток, в качестве начальника над какою-то "дистанцией" бечевника. Маленький человечек, роптавший на жену, оказывался просто деспотом и зверем, ненавидящим свою жену за ее "простое звание", которое его компрометирует перед благородными знакомыми, благодаря которым он давно бы мог получить невесту с капиталом, хотя сам не отказался бы от девчонки и простого звания, если бы она не претендовала на брак. Женщина, покинувшая мужа, оказалась разорительницею его самого. Поочередно с каждым из этих лиц Михаил Иваныч сходился, сочувствовал и потом, плюнув и озлившись, уходил прочь, неся в сердце новую рану. У всех из этих людей Михаил Иваныч, кроме того, заметил любимую фразу о том, что "мы свое дело сделали", "расписались, брат, в получении" и проч., которою они весьма искусно отмахивались от Михаила Иваныча в то время, когда он, в первые минуты сочувствия к ним, предъявлял им свои требования и приглашения. Эта фраза особенно сильно терзала его, когда он, плюнув на них и снова оставшись один, сидел в каморке и думал о своем положении. В покинутой им глуши остались, по его мнению, просто изверги; здесь же, в столице, ему хотя и сочувствуют, но одни, как Черемухин, могут только испортить дело, а другие "уже сделали свое дело", разорили, изуродовали, обобрали. Что ж это такое? Где же Максим Петрович, который никого не грабил и вырос в "неблагоприятных обстоятельствах" русской жизни?
Но Максима Петровича не отыскивалось.
Михаил Иваныч томился, смотрел в окно и кашлял…
4
Положение Нади было ничем не лучше положения Михаила Иваныча. Мертвый дом с умирающею роднёю, со всеми этими злодеями, рекомендованными Михаилом Иванычем и выглядывавшими из-за каждого забора, стоял в полной неизменности. Попрежнему ругалась измученная звонками кухарка Авдотья, попрежнему старая бабка раз в месяц разевала рот, чтобы крикнуть: "в карр… ман-то-о"… Попрежнему соборовали маслом генерала и генеральшу и тщетно ожидали их преставления на тот свет. Убитый Ваня лежал, повернувшись к стене, молча уткнув исхудалое, обросшее длинными белыми волосами лицо в подушку. Глаза его были всегда закрыты, и только легкий стон говорил, что это лежит избитый человек. За мертвым и неприветливым родительским кровом оставались попрежнему одни бестолковые мучители вроде Печкина, добродетельные и симпатичные "голубки" вроде Шапкиных и пустота, желающая во всем принимать участие, вроде Уткина.
Разумеется, как Михаилу Иванычу, так и Наде могли встретиться иные люди; но темный угол, где выросли и родились наши герои и где они хотели найти помощь, не мог им представить ничего другого, кроме широчайшего и громаднейшего разоренья, и не было отсюда видно ни одного луча света…
Такое томительное положение продолжалось довольно долго, не представляя никакого выхода, и, наконец, разрешилось совершенно неожиданно.
5
Для Нади и Софьи Васильевны это произошло на том же бульваре, в присутствии Уткина. Отправляясь на третье свидание с Уткиным, исключительно вследствие просьбы Софьи Васильевны, Надя уже не надеялась услышать от него ничего нового, а главное — никакой правды. Она даже холодно обошлась с ним, молча села на ступеньки беседки, не принимая никакого участия в их разговоре, и ждала Софью Васильевну. Невольно слушая сочувственные слова Уткина, не подвигавшегося ни на шаг к делу, и совершенно искренние излияния Софьи Васильевны насчет готовности есть "корку хлеба", она не могла не заметить, что тут сошлись люди, совершенно не нужные друг другу. И тут с самою поразительною отчетливостью припомнилась ей сцена с бабой у мирового судьи: и там точно так же понимали, чего именно хочет баба, и хотели ей сделать, но не могли; припомнились ей также и все разговоры, происходившие на крыльце суда, и в особенности рассуждения о зубах. "Зубы, зубы надо… небось бы!" — припомнила она…
Все, что было непонятно, выстрадано, передумано, все на мгновение как-то вдруг столпилось в ее голове, она как-то сразу оживилась и вслух сказала себе самой:
— Знать! знать надо… все, все! — повторила она, быстро поднимаясь с ступеньки крыльца беседки.
— Пойдешь или еще будешь? — сказала она Софье Васильевне, не глядя на Уткина.
Торопливость, с которою Надя надевала перчатки, обнаруживая намерение уйти не дожидаясь, оторвала Софью Васильевну от разговора с Уткиным.
— Так до завтра! — сказал Уткин, делая Софье Васильевне весьма ласковые глаза, и подруги ушли бы тотчас же, если бы в это время не произошло нечто особенное.
Отодвигая сердитою рукою куст, на площадку перед беседкой выступил знакомый нам лавочник Трифонов.
— Вот они, соколики! — заговорил он таким голосом, каким говорят люди, поймавшие вора. — Ишь жеребца какого припасли! Где тут еще-то? Их тут, поди, во всех кустах понасажено. Эй ты, тетерев!
На этот зов откуда-то явился Павел Иваныч.
— Правду говорил? — сказал Трифонов. — То-то я слышу: "корку, корку". А вот они тут какую корку… Чего глядишь? Ошарашь жеребца-то по рылу! Пакля! Кабы не разбудил, издох бы — не узнал!..
Павел Иваныч и Софья Васильевна были в каком-то ужасе. Печкин не мог произнести слова и стоял бледный, как полотно. Уткин прочищал палкой и ногой дорогу в куст.
— Ну что же? — командовал Трифонов. — Пехтерь! Производи свой порядок, получай жену-то! Докажи ей, шельме, права!
Софья Васильевна вдруг как-то рванулась вперед, побледнела, хотела что-то сказать и вдруг заплакала, зарыдала…
— Домой! — закричал внезапно, что есть мочи, Печкин.
— Эх, ляпнул дело! — передразнил его Трифонов. — Трехони ее, бери под руку-то, подхвати!
Печкин рванулся к жене, но Софья Васильевна, словно опомнившись, схватила руку Нади и побежала вперед по извилистой дорожке.
— Не пойду! никогда! — крикнула она всей грудью, скрывшись за куст.
И тут настало общее смятение. Трифонов, Печкин и множество зрителей бросились вслед за подругами по узеньким и извилистым дорожкам, цепляясь за кусты, ломая сучья, и надо воем садом раздавались крики: