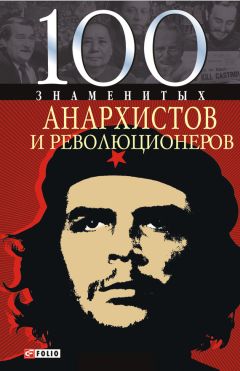Почести, воздаваемые гражданам в награду за их патриотизм, зависели от вносимых сумм. Одним в помещении банка чиновник кратко говорил «спасибо»; другим он говорил «спасибо», но при этом еще жал руку; третьим говорил «спасибо», улыбался и пожимал руку обеими руками; четвертых он выводил на балкон, и там городской голова Савич благодарил их и публично жал руку, а потом, отступив на шаг, жестом предлагал Веронике Чарской осчастливить жертвователя поцелуем. Были и такие, для которых в придачу к поцелую духовой оркестр, стоявший под балконом, исполнял туш. В честь же некоторых — но таких было немного, это были Пичугин, Золотарев, Мачухин, Вытман — в добавление ко всему упомянутому стоявшая в городском саду пушчонка выпаливала холостым зарядом салют. И после этой пальбы все находящиеся на балконе, кроме самого жертвователя, приходили в патриотическое исступление. Вероника Чарская целилась влепить ему дополнительный поцелуй в губы, а Савич в силу своего маленького роста обнимал живот жертвователя и прикладывался щекой повыше его жилетных карманов, напоминая доктора, который выслушивает больного. Представптель Союза георгиевских офицеров с черной повязкой на выбитом глазу кричал «ура» и, вытаскивая шашку, салютовал ею, отчего каждый раз Вероника Чарская вздрагивала и прижималась к кому-нибудь, пугаясь грозного блеска стали.
Возле конторских стоек банка дежурили патриоты со списками служащих разных городских заведений и отмечали галочками явившихся, а также сумму вносимых денег. Уклонившимся от патриотического долга, а также поскупившимся объявляли бойкот. В учреждениях на стол к ним клади бумагу, где эти граждане изображались в виде свиньи с германской каской на голове. С ними запрещалось здороваться, разговаривать, а швейцару — брать у них пальто и калоши. В чернильницы им подливали масло, а некоторые наиболее яростные патриоты подкладывали пистоны под ножки их стульев.
Поэтому слабодушные, обремененные большой семьей, приносили в банк серебряные ложки или старинные иконы в серебре, отдавали даже обручальные кольца.
Но как бы там ни было, а все-таки почести эти произвели на Тиму большое впечатление, когда он стоял возле городского банка в толпе зевак. Ему очень хотелось, чтобы его отцу тоже публично пожали руку на балконе, и даже, может быть, духовой оркестр сыграл туш.
Придя домой, Тима стал обследовать комнату, раздумывая, что бы такое найти для пожертвования. В жестяной чайнице лежала решетчатая серебряная ложечка с такой же решетчатой крышкой. Потом он нашел в коробке с иголками и нитками мамин серебряный наперсток, а в комоде обнаружил старенький портфельчик, на крышке которого была приделана серебряная пластинка в виде визитной карточки с отогнутым уголком, и на ней было написано: "Будущему великому инженеру от Вареньки".
Взяв столовый нож, Тима стал отдирать серебряную пластинку от портфеля. За этим занятием и застал его отец.
— Папа, — сказал Тима озабоченно, — я тут тебе насобирал для займа. Ложка, она все равно дырявая, наперсток и вот, видал, какая плашка.
— Очень хорошо, — ответил отец рассеянно. Потом взял из рук Тимы мамин наперсток, задумчиво повертел его и положил в карман.
— Одного наперстка мало. Бери вот еще, — и Тима протянул остальные вещи.
Но отец не стал брать. Усевшись на табуретку и поглаживая ладонью колено, морщась так, словно оно у него болело, отец сказал:
— Вот что, дружок, я против войны. Я тебе говорил:
эта война нужна только русской, английской и французской буржуазии, и она несет лишь неисчислимые бедствия народу.
— Ну, а зачем ты тогда наперсток взял? Я думал, ты согласный.
— Наперсток? — удивился отец. — Просто так, на память.
— Зачем же на память?
Отец улыбнулся, привлек Тиму к себе и, очень пристально глядя ему в глаза, сказал:
— Я недавно погорячился и высказал в общественном месте свои взгляды на войну. А сейчас, кажется, снова введены полевые суды за антивоенную пропаганду. Конечно, я готов повторить на суде то же самое. Ты знаешь, что такое наш комитет?
— Это Рыжиков, что ли?
— В городе Рыжиков, а у нас на железной дороге свой комитет. И вот комитет предложил мне съездить в одно место. Значит, я уеду. Словом, мама все будет знать.
Но только ты ей про наперсток не говори.
— Ты что думаешь, ей жалко будет наперстка, да? Да возьми хоть еще и ложку и плашку.
— Так ты будешь хорошим? — спросил отец.
Тима обнял отца и прижался лицом к его пахнущей карболкой старенькой железнодорожной тужурке.
Поздно вечером, когда Тима укладывался спать, в дверь кто-то незнакомо постучал. Тима снял крючок. На пороге стоял костлявый офицер в коричневом френче и таких же коричневых широких галифе. Оттого, что галифе были очень широкие, он походил на кувшин. Офицер молча шагнул в комнату, напряженно и внимательно огляделся.
— Один?
— Нет, вдвоем, — сказал Тима.
— Кто же еще? — тревожно спросил офицер.
— А вот вы еще.
Лицо офицера оставалось озабоченно-неподвижным, потом он вдруг захохотал горлом и, мгновенно меняясь в лице, строго заявил:
— Но, но, без этих штучек.
Сел. Поставил саблю между ног и, глядя на эфес, спросил:
— Фамилия?
— Чья?
— Твоя.
— Вы меня Тимофеем зовите, — посоветовал Тима.
— Значит, Сапожков?
— А разве все Тимофеи с такой фамилией?
— Не шали, мальчик, — сурово сказал офицер. — А то, знаешь, могу и того… рассердиться.
— А вы с самого начала сердитый пришли.
— Отец дома? — Офицер сморщился, махнул рукой и переспросил: — То есть где он сейчас находится?
— Вы что, про папу спрашиваете?
— Отец и папа — по-русски это одно и то же.
— А вы разве его не видели?
— Где? — встрепенулся офицер.
— Ну там, — махнул рукой Тима, — на балконе, в банке. Он же туда пожертвование понес.
— Шутишь, мальчик! Твой отец не из таких. Чего ты со мной в пешки играешь? — Офицер положил ногу на ногу, потом наклонился к лицу Тимы грудью, увешанной медалями и крестами, спросил: — Видал, сколько регалий?
— Значит, вы храбрый?
— Ага! — сказал офицер.
— Расскажите, как вы немцев убивали, — ласково попросил Тима. — Будьте добреньки.
Тима уже давно почуял нечто общее между этим офицером и тем человеком, который так подло обманул когда-то его доверие там, в гостинице "Дворянское подворье". И он вступил в борьбу с этим офицером, призвав на помощь все свое детское лукавство и мстительную ненависть.
— Чай пить хотите? — предложил Тима.
— Ну что ж, угощай.
— Ну, так я за водой сбегаю.
— Э, нет, шалишь! — Офицер даже к дверп подошел. — Ты, я вижу, ученый.
— Даже очень, — с гордостью согласился Тима. — Могу басню прочесть "Кот и повар".
Офицер вынул из кармана записную книжку, показал лежащую в ней фотографию Эсфири.
— Ты эту женщину знаешь?
— Она ваша невеста, да? — обрадовался Тима.
— Почему невеста, дурак?
— Фотографии невест всегда с собой в кармане носят.
— Ну и остолоп же ты, мальчик, — вздохнул офицер. — Это же ваша знакомая!
— А ну, еще раз покажите.
Тима долго разглядывал карточку тети Эсфири, потом огорченно сказал:
— Нет, таких у нас нет.
— А кто у вас знакомые?
— Всех по пальцам назвать? Господин Пичугин — раз, доктор Шухов — два, доктор Андросов — три, Георгий Семенович…
— Это какой Георгий Семенович? — оживился офицер.
— Ну, городской голова, что вы, не знаете?
Тима даже возмутился.
— Вот что, — решительно заявил офицер. — Хватит.
Говори, где отец?
— Вам адрес сказать?
— Вот именно, — обрадовался офицер.
— А я дом глазами знаю, а как адрес называется, не знаю.
— Показать можешь?
— Пожалуйста, — согласился Тима. — Только далеко идти.
— Ничего, у меня извозчик.
Когда вышли из дому, Тима заметил в палисаднике у кустов боярышника двух незнакомых людей. Офицер бросил им на ходу:
— Одному остаться, другому за мной следовать. — И похвастался: Кажется, веревочка в руках.
На улице было сонно и тихо. В небе торчала плоская луна, измазанная грязными облаками. Воняющий помоями ветер нес в лицо невидимую, тонкую, как зола, пыль.
И уже исчезло озорное возбуждение борьбы, которое испытывал Тима, когда разговаривал с офицером, увертываясь от его цепких вопросов. "Ну, повозит он меня по городу, ну, час, ну, два, — тоскливо размышлял Тима, — я скажу: забыл и не могу найти дом. И зачем было придумывать себе такое геройство, ведь оно никому не нужно.
Папа сказал, что не вернется больше домой. Значит, офицер мог сколько ему угодно сидеть у них в доме без толку.
И нужды в таком обмане нет, даже можно чего-нибудь напортить этим обманом".