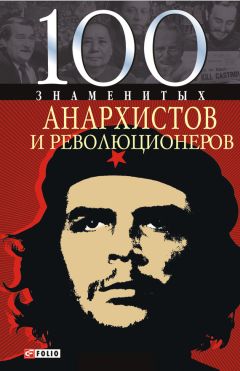И нужды в таком обмане нет, даже можно чего-нибудь напортить этим обманом".
Тима смущенно сказал офицеру:
— Дяденька, вы на меня не сердитесь, ночью я не найду того дома, да там сейчас все равно никого нет. Это там, где в костяные шары играют на столе.
— Значит, в бильярдную хотел сводить, так? — задумчиво произнес офицер и спросил человека в штатском: — Так что же, Грызлов, выходит, ушел он от нас?
— Один момент, — сказал человек в штатском. Обращаясь к Тиме, предложил: — Молодой человек, зайдемтека в палисадничек побеседовать.
Тима сел на скамью и вопросительно посмотрел в лицо человека, озабоченно склонившегося над ним.
— Задери-ка маленечко рубашку, я погляжу: ничего там у тебя не спрятано?
Тима послушно поднял рубашку, и вдруг человек цепко ухватил его жесткими сильными пальцами за кожу на животе, оттянул ее на себя и с силой ударил ребром ладони по оттянутой коже.
Черная, душащая боль ослепила Тиму, и он с открытым ртом опрокинулся навзничь.
— Репете! — произнес человек и снова оттянул кожу на животе Тимы, повторил удар. — Так где родитель? Не знаешь? Ну, значит, репете…
Все существо Тимы, опаленное болью, металось, будто в дыму, и как он ни пытался пошевелить ртом, чтобы хоть чуточку вдохнуть воздух, ничего не было, кроме этого черного дыма, заполнившего его всего. И сквозь этот мрак он видел скуластое лицо в седом бобрике, словно пришедшее во сне, такое ненавистное, такое знакомое, и юлос, произносящий это страшное слово «репете», звучал так же, как тогда в "Дворянском подворье", — участливо и зловеще. "Это он, снова он, тот человек…" — гудело колокольным боем в исступленном сознании мальчика. Потом он услышал хриплый, раздраженный голос офицера над собой:
— Прекратить!
— Ваше благородие, я же в четверть силы. Баночки, — извиняющимся, умильным голосом сказал человек в штатском.
— Ты сукин сын, — сказал офицер гневно. — Разве можно так с ребенком! И сердито пояснил: — Детей бьют ремнем по мягким частям тела, не больше того.
— А следы? — обидчиво сказал человек в штатском. — Мы ведь соображаем. После баночек никаких вещественных доказательств представлено быть не может. Вот как нас по старой науке учили. За одно это, можно сказать, пас, опытных, из бывшей охраны в нонешнюю контрразведку зачислили. А вы еще, извините, в этом деле только начинающий.
Тима лежал горячим голым животом на холодной влажной земле и дышал коротко, часто. Сознание медленно и лениво возвращалось к нему.
Он с трудом поднял голову, огляделся. Никого. Вот из грязных облаков, словно из тряпья, вывалилась огромная луна. Она осветила дерево, тонкое дерево в белых гроздьях цветов на смуглых ветвях, пахнущих горько и нежно.
Дерево дохнуло чем-то таким любимым, знакомым, бесконечно добрым и бесконечно ласковым. "Мама, мамусечка", — прошептал Тима.
Он подполз к дереву и, хватаясь за ствол, поднялся и пожаловался: "Больно мне очень". Потом спросил:
"Может, они мне кишки перебили?" Заплакал, прижавшись щекой к прохладной и гладкой коре. Мама очень любила эту черемуху и называла ее ласково "сибирской вишенкой". Где сейчас мама? Не знает она ничего, что с ним случилось? Может, пойти к ней в комитет и все рассказать — ей и Рыжикову. Нет, нельзя. Папа говорил, что в таких случаях люди не должны ходить друг к другу, а то и с другими может случиться плохое, потому что можно привести за собой свою тень: так называют шпионов. А он узнал Грызлова. Выходит, Грызлов — папина тень, а теперь, может быть, и Тимина. Значит, нужно долго быть одному, чтобы никому не принести вреда.
Тима поплелся к дому, разделся, лег на кровать, укрылся маминым пальто, а поверх одеялом. Потом вспомнил, что забыл закрыть дверь на крючок. Подумал:
"А зачем закрывать? Может, они снова вернутся". Нет, надо закрыть. Он теперь ни за что им не откроет. А если будут ломиться в комнату, он убежит в окно. И Тима встал, закрыл дверь на крючок, а в раме окна отодвинул шпингалеты.
Улегшись снова в постель, Тима подумал: "Вот я как правильно все сделал, значит, я еще молодец, а живот у меня все-таки целый, только болит, болит очень. Но всетаки это не такая боль, как тогда, когда однажды болел зуб. Зуб болел сильнее".
И, вспоминая, как у него болел зуб и какое страдальческое лицо было все время у мамы, пока у него болел зуб, Тима уснул, думая только о маме.
Утром он проснулся от осторожного стука в дверь. Но Тима не вставал с постели. "Может, это пришли те снова?
Но почему тогда так осторожно, вежливо стучат? А вдруг мама? Нет, мама стучит бойко, нетерпеливо, весело. Якоз?
Нет, Яков стучит пяткой, в низ двери. Буду молчать, как будто дома никого нет". Тима закутал голову одеялом.
Нет, так нельзя. А вдруг кто-нибудь из знакомых?
Стоящий за дверью человек перестал стучать.
Потом произнес, видно присев перед замочной скважиной:
— Сапожков Тимофей здесь живет?
Тима вскочил с постели, подошел к двери, но, усомнившись, остановился на пороге. Те ведь хитрые, могут кого-нибудь нового прислать. Их ведь таких много.
— Мальчик, — сказал человек за дверью. — Я от твоей мамы. Открой.
Тима быстро откинул крючок и толкнул ногой дверь.
Перед ним стоял незнакомый человек с усталым лицом и подвязанной белым платком щекой.
— У вас зубы болят? — спросил Тима.
— Нет, это я просто так, — сказал человек. И внимательно оглядел комнату, — Варваре Николаевне про папу все уже известно… Ну, и что в доме были.
— А про живот? — осведомился Тима.
— Не понимаю. Какой живот?
— Мой, — плаксиво протянул Тима. — Меня за папу так били! — И махнул в воздухе ребром ладони. Но, видя, что человек все-таки не понимает, Тима поднял рубаху и спросил: — Теперь видите? Вот ногтями поцарапал.
— Мальчик мой, — сказал с отчаянием человек и, опустившись на стул, спросил: — Что же нам теперь с тобой делать? В больницу нужно…
— Не надо в больницу. Я вот даже садиться уже могу. Показать? Он ведь только в четверть силы бил, а так, наверное бы, живот лопнул.
— Вот что, — сказал человек, — ты посиди пока дома, за тобой тут скоро один товарищ придет. Так ты побудешь у него, ладно? Он хороший.
— А мама его знает?
— Без мамы, брат, такие вопросы не решаются, — серьезно сказал человек и ушел.
Ян Витол сидел на берестовом туесе, обшитом сверху, как барабан, кожей, и, зажав в круглых толстых коленях сапожную колодку, вбивая деревянные гвоздочки в вымоченную подошву, поучал Тиму:
— Человек должен быть такой хладнокровный, как лягушка, когда нужно очень думать. Я занимался французская борьба. Мне делают двойной нельсон и ломают шея. Это неприятно — двойной нельсон. Партнер оторвал меня от ковра и трусит, как мешок сена. И больно и опасно. Он меня трусит. А во мне веса семь пудов двадцать семь фунта, а золотники ничего не значат. Он меня трусит и теряет силы. Я немножко отдыхаю, потом делаю резкие движения. Ныряю вперед. И я уже в партере. Это значит, лежу на ковре и дышу спокойно. Он пробует взять меня в одинарный нельсон, я забрасываю вверх руку, схватываю его в замок на затылке. Бросок — он касается обоими локтями ковра. И я его туширую грудью.
— А почему вы тогда сапожник, если вы борец? — ехидно спрашивает Тима.
— Я немножко строил корабли, — не обижаясь, объясняет Витол. — Мне очень нравилась эта работа. Но мы делали большую забастовку, и я стал борец, чтобы кушать.
— А сапожником?
— Сапожником научился в тюрьме.
— Значит, вы революционер?
Ян трет круглую, коротко остриженную голову ладонью и, смущенно поведя широким выпуклым плечом, объясняет:
— Я совсем маленький, совсем приготовишка.
Тима смеется, глядя на могучую грудь Витола, на его голые массивные руки, покрытые веснушками, где под белой кожей круто вздуваются мускулы, словно там у него спрятаны крокетные шары.
Но Ян невозмутим.
— Мальчик, — говорит он ровным голосом, — я был на каторге и видел там людей, которые еще тогда знали, что будет с Россией.
— А очень вас мучили на каторге?
— Нет, слегка. Я только не люблю мороз, когда мало одет.
— А латыши — это все равно что русские?
— Нет, мы другой народ.
— И вам тоже нужна революция?
— Революция? Это, мальчик, то, что нужно всем народам.
— А сейчас революция кончилась?
Ян нахмурил белесые брови, засопел коротким, вздернутым носом и сказал сердито:
— Э-э, революция — это борьба. Сейчас немножко нам плохо. Потом будет ничего. А еще потом… — Ян сделал руками движение, будто опрокидывал кого-то, и, глядя на Тиму узенькими голубоватыми глазками, торжествующе заявил: — Хорошо будет. — Потом снова повторил: — А сейчас немножко плохо.
— И маме?
— И маме.
— А папе?