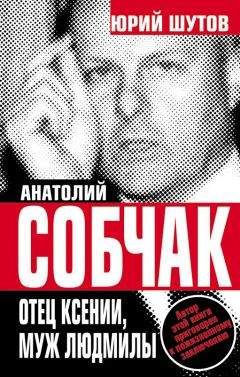Когда Людмила прошла контроль, я был уже возле нашего миниатюрного самолетика, в карете "скорой". Ее появление придало мне новые силы, и я поднялся с носилок, чтобы выйти наружу и подышать свежим воздухом. Как поет Пугачева, на душе у меня тихо падал снег, а аэропорт все больше погружался в снежную пелену, но грязь превращала этот чудный белый снег в серую мякоть. Погода, как нельзя кстати, отражала в то утро мое душевное смятение.
Тем временем шла рутинная техническая подготовка самолета к дальнему беспосадочному перелету: туда-сюда сновали электрики и прочие техники предполетной эксплуатации, "снеговики" неспешно бороздили летное поле, керосиновоз проехал на заправку самолета.
Технический персонал совмещал свою работу с любопытством по отношению ко мне. То и дело ко мне подходили служащие аэропорта, здоровались, желали скорейшего выздоровления. Некоторые поздравляли с праздником 7 ноября, хотя было видно, что они считают этот день праздником исключительно по инерции, запутавшись в кутерьме разнообразных трактовок смысла данного нам историей выходного дня.
Наконец пришло время посадки в самолет. Экипаж состоял всего из трех человек - пилота, штурмана и врача-кардиолога. Все они находились в прекрасном расположении духа, жаждали полета и излучали оптимизм. Пилот скрупулезно проверял все приборы и системы связи. Экипаж, естественно, не ведал, кого они должны транспортировать в Париж и почему.
Повалил мокрый снег, и диспетчеры отложили наш рейс, что мгновенно отразилось на самочувствии Людмилы, решившей, что это неспроста. Было видно, как она занервничала. Я же был спокоен и покорился судьбе. Странно, но волнения я действительно не испытывал.
Мы не спешили подниматься по трапу, предпочитая дожидаться разрешения на вылет на земле.
Мне хотелось остаться здесь, на родной земле, в своем городе, и мысли отказаться от полета все еще не покидали меня. Трап казался мне ступенью в совершенно иной мир, где все не родное и все не мое, и оттуда, возможно, я в свой мир уже никогда не вернусь.
Почти целый час продолжалось ожидание вылета, пока наконец взлетную полосу не очистили и не обслужили регулярные рейсы - тогда и наше томительное выжидание закончилось.
Прозвучал сигнал к посадке. Мои ноги были впервые так тяжелы при подъеме по трапу - я не хотел покидать родную землю на носилках. В самолете первым делом врач с Людмилой уложили меня на носилки. На шею, грудь, руки и ноги мгновенно были закреплены датчики для оперативного мониторинга.
Я закрыл глаза и весь ушел в себя. Мне было до боли противно это жалкое зрелище моего отлета на чужбину. По мере разгона самолета по полосе мы все сильнее и острее ощущали, что, быть может, вот этим полетом и завершается моя жизнь в России. На память приходили строки воспоминаний многих русских эмигрантов вроде Галича, Синявского и других. В какой-то момент стало плохо и самой Людмиле. Мне пришлось ее успокаивать.
Самолет благополучно взлетел и взял курс на Париж, где я рассчитывал найти покой и пристанище. Лишь горечь от сознания того, что ты гоним и в опале, не оставляла меня. Все происходящее со мной я воспринимал как дурной сон. Никогда и помыслить не мог, что со мной может случиться нечто подобное.
После вылета из "Пулкова-2", диспетчеры заставили самолетик дважды на низкой высоте облететь один из новых районов Санкт-Петербурга, в чем Людмила узрела коварное совпадение - природа как будто напоминала мне о тяготах жизни в изгнании и давала шанс вернуться в аэропорт моего города. Города, которому я вернул его историческое наименование - Санкт-Петербург и с которым прожил самые счастливые и самые тяжелые годы своей жизни.
В ответ на мои неугасавшие сомнения и терзания Людмила решительно утверждала, что вся операция по отлету из страны есть единственно разумный шаг, на который, по ее глубочайшему убеждению, ее сподвигли некие высшие силы. В конце концов я понял, что обратной дороги у меня нет, а потому перелет в Париж есть данность, которую нужно признать и принять.
Первый час полета, в течение которого мы находились в воздушном пространстве России, Людмила вспоминала об известном эпизоде с уничтожением силами ПВО в 1983-м году южно-корейского "боинга" с почти тремястами пассажирами. Она мрачно шутила в том духе, что уж коли не пощадили столько людей, то наш-то "Фолкер" с двумя пассажирами сбить - пара пустяков. Реалистичным, разумеется, казалось наземное требование о принудительной посадке. Поэтому мы облегченно вздохнули, услыхав от пилота информацию о вхождении в воздушную территорию Латвии.
Вскоре после сообщения о вылете за пределы России я даже на короткое время задремал. Трехчасовой полет прошел без неожиданностей. Сопровождавший нас врач-финн, бородатый, добродушный и розовощекий (как на рекламных рисунках финского сыра), неплохо говорил по-английски и даже немного по-русски.
Он внимательно следил за работой моего сердца по монитору, потягивая кока-колу и олицетворяя собой спокойную уверенность и домашний уют. Мы немного поговорили, а потом Людмила стала по памяти читать мне свои любимые стихи. Начала она почему-то с лермонтовских строк:
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, послушный им народ...
Потом Мандельштам:
Мы живем, под собою не чуя страны.
Наши речи за десять шагов не слышны...
А затем пророческое И. Бродского:
Я вернусь в этот город, знакомый до слез...
И еще Б. Ахмадулиной:
Я этим городом храним,
И провиниться перед ним
Не дай мне Бог, не дай мне Бог - вовеки!
Все это пробудило во мне калейдоскоп воспоминаний. Явственно привиделась картина моего отчаянного сопротивления вводу войск в Ленинград во время августовского путча 1991 года, то, как я напоминал генералитету о Нюрнбергском трибунале и ночи напролет бился за жизнь города. Вспомнилось, как по своему домашнему телефону в декабре 1991-го дозванивался до канцлера ФРГ Гельмута Коля и просил его о срочной продовольственной помощи городу - поставках картофеля, муки, мяса, консервов и других продуктов; как добился от американского президента Джорджа Буша согласия на отправку в Ленинград с американских баз в Германии десятков тысяч тонн продовольствия - и тем спас город от назревавших голодных бунтов. Вспомнилась также череда усилий по возврату моему городу его исторического имени, множество осуществленных идей по возрождению духа столичности и культурного престижа города на Неве.
И какой мелочной и пошлой на фоне всего этого показалась политическая хлестаковщина моего преемника, посулившего горожанам золотые горы, причем сразу и всем. Все это не могло не обернуться для горожан большим обманом, а не большой работой, как было обещано. Но было обидно за город, который под водительством губернатора-сантехника стремительно возвращается к положению областного провинциального центра с соответствующими нравами и обычаями. Впрочем, доля вины за это лежит и на мне самом. Однако об этом позже...
Несмотря на миниатюрные габариты нашего самолета, полет проходил нормально, и лишь дважды кратковременно трясло. В такие моменты я невольно вслушивался в себя, беспокоясь за сердце, но, слава богу, самочувствие было нормальным.
Когда мы вошли в зону парижского аэропорта "Бурже", в наш салон ударило такое ослепительное солнце, что Людмиле пришлось срочно закрывать фильтры на иллюминаторах и пожалеть об оставленных дома солнцезащитных очках. Всего три часа полета разделяли наши миры, такие непохожие друг на друга: там - глубокая осень с отъявленно мрачной, неприветливой, пасмурной погодой, мокрым снегом и слякотью, а здесь - позднее лето, ясная теплая погода, немного поблекшая, но все-таки по-прежнему зеленая трава. Неприятный контраст в пользу Франции, невольно наводящий не только на климатические сопоставления.
На финише полета возникло ощущение схожести наших переживаний с женой и отвлечение от страшных мыслей и чувств, которые каждый из нас хранил внутри себя на протяжении всей операции по моему выезду из страны.
Франция встретила нас радушно - посадка была легкой. У трапа меня уже ожидала парижская карета "Скорой помощи". Людмила быстро прошла паспортный и таможенный контроль, благо представители этих служб сами подъехали к нашему самолету. Никаких вопросов пограничники и таможенники ни мне, ни жене не задавали.
По договору ответственность за мою доставку со стороны перевозчика заканчивалась в момент передачи меня на борт парижской "скорой". Так что наш врач с чувством выполненного долга передал своему французскому коллеге носилки со мной, слава богу без осложнений перенесшим полет. О чем тут же и была сделана запись в истории болезни и в сопроводительном акте. Мы поблагодарили финский экипаж и подписали все необходимые документы. Меня переложили на носилки парижской "амбуланс", заново подключив датчики для мониторинга.