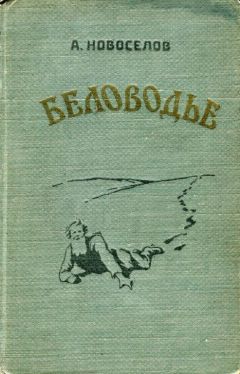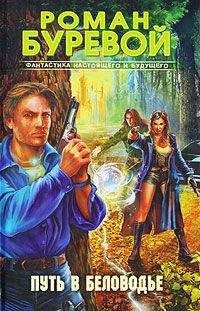— Где тебе! Не к рылу конь-то.
Сенечка осатанел, накинулся, да тот отшвырнул его, ногой притопнул и еще расхохотался:.
— Как его забрало, парень!
Теперь Сенечка пропал. Когда пошли со стану, он остался. Думали, догонит, как бывало не раз, а теперь и не придумаешь, куда его закинуло.
— Нет, скажи, кого он там удумал? — снова вспомнил Назар, обращаясь к Асону.
Старик солидно помолчал, поправился в седле и нахлобучил глубже шапку.
— Надо так располагать, что обернулся… Без пути ему с нами.
Он не одобрял Хрисанфа, но и от Бергала с самого начала не ожидал хорошего.
— Лучше бы и не вязался. Миру не выносит, как поганый ладану, а сам все вяжется.
— Душа, парень, ищется, — вставил задремавший в седле Анисим, — жизнь-то шибко уж нескладная, собачья, прямо, так сказать, ну, оно и манит к людям.
— Ну, дак ты пошто все выкамуриваешь? — внушительно спрашивал Назар, будто обращаясь к Сенечке. — Слова гладкого не скажет, все с гвоздями, с заковыками. Покуль гладишь по шерсти — молчит, а поведи напротив — ерихорится.
— Да подавись он и конем-то! — отзывается Хрисанф. — Лошаденка так себе, запаренная, с виду только манит. Будь он с ней! Бери. Отдам…
Панфил придерживает лошадь.
— Всякому, Хрисанф, не за любо покажется. Всем известен Сенечкин обычай. Надо бы подальше.
— Да кому тут коня-то? Ну, скажи, кому отдать? Добро бы, путный был. Сесть путем не сядет, все с пенька таращится.
— Нет, ты шибко его не охаивай, — вступился Анисим, — с лошадью он мастер.
— Мастер! Тоже выговорит… Да отдам, поди он к ляду.
Сам поддернул повод воронка и так сдавил его ногами, что лошадь захрапела, испугалась и шарахнула задом Василисину кобылу.
— Держи, ли чо ли! — взвизгнула баба, хватаясь руками за гриву. — Топчется и топчется…
— У-у ты, Азия! — рычит Хрисанф, еще сильнее забирая повод. — По обычаю видно… Только норовит, куда бы в сторону.
В хвосте, за отбитыми с баранты лошадьми, плетутся молодые.
— Жалко, слышь, Сенечку, — вздыхает Акулина.
Иван что-то думает и убежденно говорит:
— Не пропадет он.
Тяжелой поступью ныряют кони по холодным песчаным холмам. Идут, понуря головы, ленивым шагом. Животы подтянуло. Во рту высохло и горячо. По привычке, будто все еще не веря окружающему, наклоняют они головы и ищут пересохшими губами травы. Но губы прикасаются к холодной и мертвой земле.
Кони чуют что-то необычное, смутно-тревожное. Все идут в полусне и вдруг, словно по команде, высоко поднимут головы, насторожатся, вслушаются, глубоко потянут в себя воздух. Тревога переходит к людям, но никому не хочется сказать об этом.
Перед светом отвоеванные кони стали беспокоиться. Потеряли и усталость. Бодро вскидывают головы, строчат ушами, озираются.
— Не Сенечку ли чуют? — высказал догадку Анисим.
— Бывает это, балуют, — успокоил Асон: — она животная степная, дикая. Взыграют вот, мотри.
Он, обернувшись, крикнул:
— Эй, бабы! Поддержись, кто на калмычках. Тетка Дарья! Ты, однако?
— Чо это?
— Да поддержись, мол. Кони уросят.
Дарья и сама заметила.
— Моя-то все ушами хлопает.
— Ну, вот то-то. Штоб тебя не схлопала.
Хрисанф долго вслушивался. Наконец, когда оживший воронко и еще другой калмык — буланый под Панфилом — звонко и надсадисто заржали, он не скрыл беспокойства.
— Што за притча? Тут, мотри, не Сенечкой попахивает.
— А кого тебе почудило? — пряча страх перед чем-то, засмеялся Назар.
— Да уж это, брат, так — свату сват поклон заказывает. — Он натянул поводья.
— Осади-ка малость. Эй, Панкратыч, придержи.
Все задержали лошадей и, тесно съехавшись, посмотрели на Хрисанфа.
— Землю вот послушать, — ответил он на общий молчаливый вопрос, слезая с лошади, — она не утаит, сейчас расскажет.
Остановившиеся лошади, как по команде, повернули головы, насторожили уши, и опять жеребцы залились, подбирая тощие брюха.
— Я боюсь, Ванюшка, — вздрагивала Акулина.
— Погоди ты… помолчи.
Он сознавал, что, может быть, близко уже то, о чем так много говорили по деревням, чем беловодцы так гордились. Смутно чувствовал, что им, закинутым в пустыню, угрожает что-то и это что-то не от них и не с ними пришло, а наслала его пустыня. Боязни не было. Хотелось открыто и смело посмотреть в глаза тому, что надвигается из холодной, затянутой подлунным сумраком могильной дали. Он наклонился к передней луке и чутко слушал, вглядывался.
— Зря, поди, все? — усумнился Анисим. — Где-нибудь отбилась лошаденка, шарится.
Хрисанф, едва передвигая ноги по песку, отошел и растянулся на земле, прилип к ней ухом. Все затихли. Прошло, казалось, много времени. Хрисанф вскочил. Его засыпали.
— Ну, сказывай!
— Слышно?
— Слышно, што ли?
Он ответил одним словом:
— Наступают.
И никто не нашелся ничего сказать.
— Коней, так, десятка три, не меньше… Подвигают ровным шагом.
— Да кто это? — выкрикнула перепуганная Василиса.
— Нас проведывать с деревни едут, — огрызнулся Хрисанф.
Панфил заторопил.
— Садись, садись! Поедем шибче. Ежли чо, так и уйти не хитрено.
— Куда уйдешь? — наплыл Хрисанф. — Куда уйдешь?..
— Куда тут? — согласился Асон.
Дарья заскулила:
— Вот не надо было по-людски, так бог послал… Отольется за разбой-то…
— Помолчи ты! — строго и испуганно крикнул Назар.
— А помолчи-ка сам! Вот посмотрю, как завертишься. Ну, што теперь? Куды тут?.. Матушка царица, богородица!..
— Ой-ой-ой! Да што это, скажи, нам навязалось… — сквозь слезы вздыхала Василиса.
— Бабам в кучу и молчать! — властно зыкнул Хрисанф.
Не слушая жалоб и стонов, он окинул взглядом всадников и, сознавая силу, стал громко приказывать:
— Коням смену! Пересядь на заводных! Полы за пояс! Стремена огляди, узду! Подбери чумбуры! Сумины сделай на отлет — как ежли уходить, так чтобы сбросить сразу. Да зря не бросай. Без харчей пропадешь. Стреляй не сразу — надвое. Покуль трое заряжают — трое отбивайся. Цель в упор! Сади на муху! Пистон обмени. Подсыпь на полку!..
Небо на востоке задымилось серой мутью. Звезды потеряли яркие иглы-лучи: подходит утро. Стан, готовый к бою, ровным шагом, бесшумно плывет по пескам. Разговоров не слышно. Лица строги и спокойны. Но старики и молодые поминутно смотрят, вслушиваются в белесую глухую муть. Теперь уже ясно, что их обходят, окружают.
— И завсегда вот так, — бросает спокойно Хрисанф, — заездом норовят, собаки.
Круг понемногу суживался; скоро видно стало всадников. Они двигались редкими звеньями, все приближаясь, все затягивая так хорошо закинутую петлю.
И когда невмоготу стало терпеть, когда цепь, казалось, захлестнула вокруг горла, Хрисанф не выдержал. Высоко привставши на стременах, он страшно крикнул что-то непонятное, бросил дерзкий, требующий вызов. Кругом вздрогнули. А лошади нетерпеливо перекликнулись и зашагали нервной поступью.
В цепи, будто выждавши должное, где-то справа, звонко крикнули, и не успели мужики взять на прицел, как в воздухе взвыли грузными шмелями длинные, тонкие стрелы. Дарья взвизгнула, взревела и тяжело упала на бок. Под Асоном взбеленился рыжий: вдруг осел, поднялся на дыбы, лягнул кого-то задом и, взбешенный, ринулся от круга, унося в своей шее стрелу.
— Держи Асон! Держи! — кричал Панфил, прицеливаясь влево.
Грянули гулкие выстрелы. Но снова прогудели ядовитые шмели, впиваясь в сгрудившихся лошадей, и, словно по сигналу, цепь с визгом и криком захлестнула окруженных. Мужики в упор ударили огнем из широкогорлых и длинных стволов, без прицела, по намету. Тяжелыми черными комьями грохнулись двое в песок, но остальные стиснули, в мгновение смяли баб и мужиков, насели с диким ревом, потрясая копьями.
Хрисанф увидел, как Панфил с плеча хлестнул нагайкой подскочившего к нему калмыка и вдруг словно осел, потерялся с коня, а над ним уже суетливо топтались с победными кликами двое. Где он? Как с ним?
— Ну, Панфил, не сдай же! Ну, не сдай, Панфил! — закричал Хрисанф, да так, что справа шарахнулась чья-то брошенная лошадь. — Держись! Крути его!.. Прочь, собаки! Размож-ж-у!
Он ударил коня в ребра и, держа ружье за ствол, взмахнул им, как дубиной. Кто-то дико вскрикнул, что-то хрястнуло под кованым прикладом. Лошадь, скаля зубы, взвилась на дыбы и грудью врезалась в свалку. На песке, ворочаясь, пыхтел Панфил. Не сдержал, видно, старый двух крепких молодых волков. Хрисанф резко опустил приклад и под ним в предсмертной судороге закрутилось что-то грузное, живое. Новый взмах — и Панфил уже был наверху, доканчивая дело своим верным ножом. Он работал молча, и Хрисанфа радовало, что старик так ловко и проворно управляется с насевшими.
— Вали, Панфил! Вали! У-ух ты! Ого-го!
Он тигром рыкнул, круто повернул коня и совсем приготовился обрушиться туда, где с визгом и ревом крутился живой черный клубок, как страшный удар по затылку черным колпаком накрыл все окружающее. Шапка свалилась. Снопом ослепительных искр, как освещенная полуночною молнией, вспыхнула в глазах пустыня. Но свет погас, как и вспыхнул, мгновенно. Хрисанф зашатался и уже готов был опрокинуться с седла, как на горло легла петля. Едва держась на прыгающей лошади, он полусознательно приподнял руки и поймал у горла что-то крепкое, упругое. Побеждая угасающую память, чуть открыл глаза… Бергал!.. Или смерть в его образе? Напряг все силы, разом сбросил с себя черный и душный колпак, оторвался от петли. Нет, нет! Это Бергал! Это Сенечка! Лезет вместе с лошадью, будто переехать хочет, злобно и страшно шипит. Вот выдернул нож!.. И загорелся Хрисанф, пожаром вспыхнул, бросился на Сенечку голодным волком, перевернул его через седло, грузно рухнул вместе с ним, подмял, ударил головой о землю, стиснул крепкими руками глотку… Бергал, умирая, хрипел, а над ним хрипел Хрисанф: