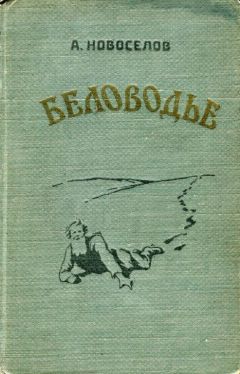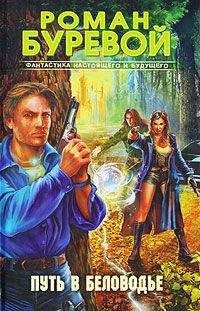Хрисанф не слушал.
— По мне — этак, а там как кому приглянется. К вечеру складаться…
Назар скорбно крутил головой.
— Ой да, и скажи, стряслось же! Вот напасть! А все Сенечка! Увязался, слышь, на грех да на свою погибель. Ведь это что, скажи, выкинул! С ордой спознался! А?
— Собака драноглазая! — скрипнул зубами Хрисанф.
Он взглянул на могилу Бергала, вскочил, вырвал крестик, изломал и бросил.
— Крест! Куда ему с крестом? К сатане без креста хорошо… Кол ему осиновый!
Панфил в ужасе встал и, вихляясь на тонких ногах, растопырив руки, бросился к Хрисанфу.
— Што ты, што ты! Богородица с тобой! Покойный он!
— Сенечка?! — дерзким хохотом захохотал Хрисанф.
Старик, как стоял, уронил свои руки, ничего не мог сказать и сел.
— Отвернулись! Уходят! Потерял былую силу. Ни словом, ни голосом их не вернешь. Хрисанф теперь им сила. За Хрисанфом пойдут. Не отстать им от мира.
Он не слышал голосов за спиной и не видел, как прошел мимо Хрисанф. Голову теснили тяжелые мысли, немощное тело побеждало дух. Перед Панфилом поплыли в волшебном мареве родные горы, развернулись темные луга, напитанные влагой, напахнуло терпким ароматом большетравья, и живой перед ним стояла грязная деревня со знакомыми домами, с моленной и гурьбой ребятишек на улице. Спокойно там, сытно… Все опять будет свое, родное. Примут с радостью. Будут долго охать и расспрашивать, а там пойдет по-старому.. Пасека брошена. Угодье-то какое! Лесу, лесу! А воды! И бежит она с кручей, будто песни поет. Не замолчит ни днем, ни ночью. И цветов, и трав там всяких! Красота господня! Утром встанешь вместе с солнышком, и нет тебе ни суеты и ни печали. На слезу позывает, как посмотришь. Молится каждая травушка, стоит тихохонько, а молится. И лес, и горы, и букашка всякая, и солнышко — все смеется ангельской улыбкой… День-деньской — по колодкам, а устали нету. От пчелы отстать не хочется…
Панфил сидел, склонивши голову в колени. Акулина, сама разбитая, пришибленная, не могла оторваться от Панфила. Она издали следила за ним и жалела его женской теплой жалостью.
— Один! Куда он? Да и как с ним? Умирать он собрался уж, што ли? На день, на два хватит, а там сгинет… Может быть, и передумает? До вечера-то долго. Ой, дождаться бы только! Нету силушки сидеть среди огня.
Солнце будто и не движется, остановилось в небе. Акулина, спасаясь от жгучего света, прилегла на сумы и наглухо закрылась шалью. Господи! Да неужели же не выйти! Не пожить в деревне по-людски, не походить за домом! Да ведь она бы избу-то держала, как игрушечку!.. Ванюшка хочет на полянке выставить, за Иваном Елисеичем, над самой речкой. А на речку — балкон… расписной… Хозяйство сладить помаленьку. Все бы к месту, все в порядке. Мимо дому добры люди не прошли бы. Жить да радоваться… И вдруг вспомнила… Ребенок! Замерла душа в тоске и сладком трепете. Словно с жару студеной водой по спине окатило. Промелькнуло то, как сказал Ванюшка: «Баба у меня на сносях ходит». И казалось, что это правда, что должно оно случиться скоро, что уже близко это страшное, великое, таинственное. Нет, скорее, скорее! На деревню, к людям, в свою избу!..
Акулина в смятении откинула шаль. Солнце обожгло и ослепило ее, а в его сиянии стоял Панфил. Стоял без шапки, опустивши руки. Но это уже был не тот Панфил, что сидел на песке беспомощный и немощный — сухое, длинное лицо его горело волей. Он стоял без движений, без слов, но по глазам, по каждой тонко вырезанной складке на лице все видели, что он решился, что он остается один, и никакие силы не вернут его.
XIV
Вторые сутки были на исходе, как Панфил все шел и шел. Море-озеро святое было близко. Когда солнце накаляло и песок, и воздух, в дальнем мареве вставали тенистые рощи, и тогда Панфил с новой верой, с новой силой смотрел в сияющее небо. Ему ночью было чудное видение, и он знал теперь дорогу. В котомке у него лежала старая из старых книг — благословение родителя, и с этой книгой, верил он, его пропустят. Книга правильная.
Плечи давит длинное, тяжелое ружье, горячим камнем налегла на голову пуховая шапка, ноги тонут, обрываются, скользят в песке, во рту давно уж сухо, глотку обжигает с каждым вздохом, по губам сочится кровь, а в глазах нехорошо — темно и мутно! Но сквозь темь и муть опять маячат острова и рощи. Близко, близко! Только бы до берега! Припасть к воде…
Но спустилось солнце с неба — и пропали дивные леса…
Был третий полдень. И все также, без границ и без жизни, расстилалась желтая пустыня. Панфил, маленький, сгорбленный, переползал с холма на холм, и высокое солнце видело лишь черную фигурку, в безумстве борющуюся с пустыней, да воробьиный дробный след в волнах песка.
Все медленней и медленней ползет безумец, и вот-вот затихнет, остановится, и оборвется след.
Панфил уже минутами не сознавал, идет ли он или стоит. Ему было все равно. В глазах потемнело. Леса ушли. И возроптала душа. Он давно уже бросил и ружье, и кафтан, идет теперь, делая последние шаги, чтобы пасть и не встать.
Совсем один! Ушли! Теперь подходят к первому колодцу. Жалость и боль за себя вызвали откуда-то последние соленые слезинки… Вспомнилось, как расставались.
Акулина подошла украдкой.
— Дедушка, пойдем, ли чо ли… пропадешь тут. Где тебе?.. После… потом сходишь опять…
Сама плачет и хоронится, чтоб не заметили.
До слез это тронуло. Не баба — золото. Сердце голубиное. Благословил ее горячей старческой молитвой:
— Награди тебя господи за доброту твою, за ласку…
Будто с покойным прощались, искушали сатанинскими речами… Хрисанф не выдержал. Пойми его! Все бегал, рыкал, а как простились да ушли — вернулся. Далеконько были — прибежал.
— Ну, Панкратыч, поднимайся. Будет! Ждут там. Без тебя не пойдем…
Уж не дьявол ли в образе Хрисанфа? Сомустить хотел. Да не дался ему. Заклятием великим отпугнул… Ушел ярый, с богохульными словами…
И опять щемит сердце, да не осталось слез, все высохло.
«Захотели бы, так на руках, силком подняли… Лишний, верно»…
Мысли путались и обрывались.
Вот опять! Опять видно! Панфил уже не верил и остановился, пораженный и испуганный: «Дьявольское наваждение! Ничего там нету. Дьявол путает, глумится».
Но за ближним длинным гребнем встали темною каймой живые, настоящие леса. Нет, вот они, вот! А озеро! Видно, как над ним повисли, опрокинувшись вершинами, высокие деревья. Вот когда оно открылось! Верно, только так и можно подойти к нему… Взроптал! Не выдержал! Чуть не погиб под самым берегом!
Панфил, спотыкаясь, добрел до холма и обессилел. Подломились ноги, в голове потемнело. Последние силы убивал он, чтобы передвинуться вверх, и полз на острых, высохших коленках, цепляясь пальцами за землю, будто сзади была пропасть!
Вот скоро, вот близко!
Выбрался на гребень… Страшно посмотреть… Глаза не открываются… Каждая жила струной натянулась, и поднялся он, словно вырос из холма, во весь свой рост, в разорванной серой рубахе, обтянутый по тонким и длинным костям задубевшей темной кожей… Открыл глаза, всмотрелся…
Вплоть до светлых краев неба был песок… песок… песок.
И так же, как вырос, ушел он в холм. Пал на землю и затих.
Но, верно, того только и ждало море-озеро святое. Подступило оно к самому холму и открылось Панфилу в красоте своей великой — с островами, скитами и храмами. Ликующим, радостным звоном зазвенели невидимые, по лесам и под водой, колокола.
Подошла к холму лодка.
Панфил, ясный и спокойный, поплыл к тихой обители.
I
В ночь на Ивана Купала, на Каменной речке, под Суровым белком вырезали нехристи темные семью Григория Боброва. Складно жили кержаки Бобровы, другим на завидаль, да вот пришло — и ничего не стало, выскребли заимку начисто. Но на роду, видно, было написано — большуха Григорьева, Аннушка, в ту ночь на деревню ездила, жива осталась. Куда ей? Как ей? Замуж? И пора бы — на семнадцатый перевалило, а собой высокая да крепкая, с лица и станом удалась на славу, — но заимочных на деревню с опаской берут: непокорный народ, много воли видел.
После беды, не больше — через месяц, собралась Бобровская родня на богомолье в женскую обитель: задумали в сороковки отвести панихиду. Не отстала и Аннушка. Ей после дяди Селифонта первое место.
Четыре дня тянулись богомольцы навершными по горным тропинкам, то вздымаясь на хребты, то опускаясь в долины. Обитель строили по общему согласию всего кержацкого Алтая, и по согласию же избрали это место: нет дичее его ни ближе, ни дальше, на сотни и тысячи верст. Всю свою жизнь Аннушка вела среди лесов да кряжей и никогда их не видела такими, как за эти золотые дни. Говорили раньше мужики о вольном духе на горах, но ни разу его не приметила, а за дорогу он сам объявился: ни следу человеческого, ни покату конского — и лес и трава стоят нетронутые, свежие, вольно и радостно дышится, а на сердце — как в праздник. Когда на пятый день с крутого перевала показалась обитель — деревянный синеглавый храм и дружная стайка монастырских теремков, — у Аннушки дрогнуло сердце перед чем-то таинственным, впервые ей открывшимся, и она уже не следила за лошадью, не могла оторваться глазами от невиданного. Глубоко-глубоко, в наглухо замкнутой горами долине, чуть искрилась и белела крутой излучиной речушка, а на излучине тонула в зелени обитель. И не слышно там было ни людей, ни речки, как на картинке, на той самой, что покойник отец перед пасхой купил. Только на картине над обителью стояла в воздухе икона божьей матери, и Аннушка невольно посмотрела в синеву над долиной, но глаза столкнулись с огненным солнечным взглядом, заслезились и померкли.