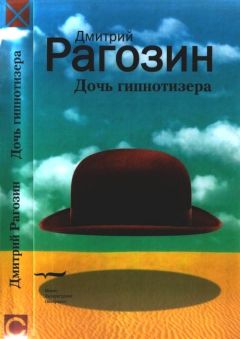26
Сапфира, конечно, слукавила, когда сказала своему подпольному любовнику, что понятия не имеет, кто такой Хромов. Каждое утро, прячась в темноте, за узким прилавком буфета, она не спускала с него глаз. Но Хромов интересовал ее не как известный писатель, не как видный мужчина, он интересовал ее исключительно как супруг женщины, которая, приехав на юг, к морю, не ступала шагу из номера, погруженная в течение всего дня в глубокий сон. Эта странная женщина с первых дней своего пребывания в гостинице внушала Сапфире суеверный ужас. Она никак не могла решить, хотела бы она быть такой или нет. Хромов уходил из буфета последним. Сапфира уносила грязную посуду в кухню, вытирала столы, убирала продукты, пересчитывала полученные деньги. Закончив работу, садилась у окна и смотрела на двор, по которому бегали куры и ходил павлин с длинным, как сухие еловые ветви, хвостом. Это были ее самые счастливые минуты, самые счастливые переживания. Впереди - долгий, бесконечно долгий день. И она знала, стоит выйти из буфета, как скучающий на страже отец немедленно даст ей какое-нибудь поручение.
"Бери ведро, швабру и бегом в двести первый!"
Поднявшись по лестнице и пройдя в конец коридора, она робко постучала. Прошло несколько минут тишины. Дверь медленно открылась.
"Входи!" - рявкнуло из глубины комнаты.
Невысокий, загорелый старик в перламутровом халате стоял у окна, потирая ладони, сплетая пальцы. Посреди комнаты на полу красная клякса оскалилась стеклянными осколками. Старик молчал, сухой насмешкой оценивая ее испуг.
"Осторожно, не обрежься..."
Пока она убиралась, он стоял у окна, перелистывая какую-то книгу, потом сел в кресло и, когда она, закончив, выжав тряпку в ведро и подхватив швабру, уже собралась уходить, спросил, удерживая вопросом:
"Как тебя зовут?"
Полы халата разошлись, обнаружив худые волосатые ноги с острыми голыми коленями.
"Сапфира".
"Сколько тебе лет?"
Насмешливый взгляд проникал в нее, как рука в мягкую нитяную перчатку, шевелил пальцами, проверяя, не разошелся ли где шов...
"Двадцать два".
"Скучно здесь?"
"Да".
В голове как будто звенел колокольчик, щебетала стая птиц, настраивала струны и луженые глотки оркестровая яма.
"А на море купаться ходишь?"
"Нет".
Шла сквозь заросли вьюнков и лиан, сквозь золотой дождь, через занавес, перелагалась со страницы на страницу.
"Любишь виноград?"
Жесткий голос, как удары ножа по деревянной доске.
"Нет".
Потонула, отражаясь.
"А что любишь?"
Сказал, точно раздавил пальцем клопа.
"Яблоки, груши, сливы".
Повисла в ветвях.
"Что-нибудь читаешь?"
Вдел черную нитку в толстую скорняжную иглу.
"Нет".
Опала, пала.
"В кино бываешь?"
Прошил, стянул.
"Иногда".
Поманил пальцем:
"Подойди ко мне, Сапфира!"
Она подошла.
"Садись!"
Он указал на свои колени. Сапфира села. Хотела опустить веки и не могла. Даже когда его рука оказалась у нее между ног, она продолжала смотреть в эти ничего не выражающие глаза.
"Невинна?"
"Нет..."
Старик поморщился и отдернул руку. Взгляд потух, точно догоревшая до конца соломинка.
"Иди!" - сказал он, грустно обнюхивая пальцы.
Сапфира вскочила и, подхватив ведро, швабру, выбежала из номера.
27
Мало кто догадывался, что Успенский поклоняется не плаксивой, неряшливой Клио, а строгой, церемонной музе ревности. Он держал у себя в кабинете, под ворохами бумаг, ее подлинное изображение, которое посторонний принял бы за рисунок, намалеванный детской рукой, и был уверен, что к ней обращено своим сложенным из камней оком отрытое в горах древнее святилище. Даже ненадолго покидая Аврору, на час, на два теряя ее из виду, он испытывал жесточайшие муки воображения. Давеча, оставив жену с Хромовым, едва выйдя за калитку, он уже воображал, как она отдается известному литератору. Нет, слишком легко ему досталась эта необыкновенная женщина! Сколько бы ни прошло времени с тех пор, как она согласилась выйти за него замуж, он не верил в свое счастье. Не могла же она ограничить свои безмерные потребности его кротким, сидячим благоговением! Конный контур. Прощение, прощание. Подпол. Жизненный опыт. Матрос, опоздавший на свой корабль... В ожидании библиотекаря, скрывшегося в хранилище, Успенский привычно пускал жену по кругу своих знакомых, не забывая, что ведь могут быть еще и незнакомые, какие-нибудь вьющиеся над пахучей прорехой неизвестные иксы и игреки. Но самым страшным ему казалось выдать предмет своего поклонения. Богиня ревности, он читал в манускриптах, не терпела огласки. Как бы ни было больно, нельзя обнаруживать подозрений.
Ревнивец смотрит на мир с иронией. Слишком велика, утверждал Хромов, разница между тем, что его гнетет и подгоняет, и той бескрайней плоскостью, по которой он вынужден перемещаться. Едет ли он на велосипеде, листает ли старые пожелтевшие газеты, разговаривает ли с приятелем, ему все позволено, он полновластный владыка своих кошмариков, кошмаров и кошмарищ.
Пока Успенский дошел до библиотеки, он несколько раз становился трупом в прямом смысле этого тупого слова и вновь оживал - уже в переносном смысле. Неужели это тот самый город, над историей которого он ломает голову? Не город, а какое-то бестолковое мероприятие: загаженный пляж, дырявые кабинки для переодеваний, исписанные изнутри стихами, оголтелый базар, рестораны, виллы, лотки с сувенирами, эксплуатирующими любовь курортников к завуалированной пошлости, да и сами курортники обоего пола, призрачные бродяги, литераторы-тугодумы, проточные проститутки, чистоплотные официантки, мошенники, уголовники...
Больше всего ему сейчас хотелось посмотреть на себя в зеркало. Он был уверен, что не узнал бы своего лица. Но откуда, скажите на милость, в библиотеке зеркало? Книги не переносят отражения. Если бы было хоть окно в стене, выходящее на море! Но и окна нет. Стена, закрашенная бело-серой краской, свет от неоновой лампы. Еще немного, и я попрошусь назад - в сон, подумал Успенский.
Библиотекарь вынес тяжелую подшивку в грубом картонном переплете.
"Спасибо".
Успенский сел за стол. Положив перед собой подшивку, он некоторое время не решался ее раскрыть. Надо соблюдать предельную осмотрительность, даже когда имеешь дело со старыми газетами. Новость - всегда новость, даже напрочь позабытая или задвинутая в дальний угол. Листая старые газеты в поисках лейтмотивов для своего монументального труда, перебирая легкий тлен, передовицы и подвалы, затертые фотографии, он вновь и вновь убеждался, что это "вновь и вновь" истории, доступное всем и каждому ожидание, не имеет сроков давности. Накануне, любопытствуя, он нашел в старых газетах статьи, посвященные гастролям гипнотизера. Всего три заметки. Одна коротко извещала о том, что прославленный гипнотизер изъявил согласие показать в городе последние достижения науки внушения. Вторая сатирически описывала продемонстрированные "фокусы" и агрессивную реакцию разочарованной публики. Наш город, не без ухмылки замечал корреспондент, оказался не подготовлен к дешевым трюкам и пахнущему нафталином реквизиту. Третья статья появилась через неделю. За это время в городе произошло чрезвычайное событие - был убит мэр. В статье сообщалось, что гипнотизера подвергли допросу в связи с расследованием убийства. По сведениям газеты, он смог представить исчерпывающие доказательства своей непричастности.
Потребовалось время, чтобы оценить значение находки. Ночью, ворочаясь в ревнивой бессоннице, Успенский понял, что статьи о гипнотизере надо читать между строк, между, между, между двух стульев, между нами девочками, между ног, между собакой и волком. Это жуткое "между" окончательно его разбудило. Первая мысль была - Аврора. Вторая - второй мысли не было, ибо первая вместила в себя все, что можно помыслить. Мысль была - завтра же вновь зайти в библиотеку, взять подшивку, найти статьи о гастролях гипнотизера и проштудировать их вдоль и поперек, придираясь к каждому слову, к каждой запятой. Поискать, нет ли опечаток... Этого требовал бессонный труд его жизни, этого требовала история, этого требовали жена, дети - мальчик и девочка...
Он поднял глаза и тотчас встретился взглядом с библиотекарем. Оба вздрогнули. Оба сразу же испуганно опустили глаза. Библиотекарь еще ниже пригнул лысый череп к тетрадке, точно внюхиваясь в написанные фразы, и быстро застрочил, виляя карандашом, для большей убедительности высунув острый кончик сизого языка. Успенский распахнул подшивку газет и зашелестел ветхими страницами, нашаривая нужные номера. Вот сообщение о вытянутом сетями бронзовом тритоне ("Ценная находка"), вот фельетон о новых пляжных модах ("Спереди - пышным букетом, сзади - заподлицо"), вот фото мэра и интервью ("Мы этого так не оставим!"), реклама солнцезащитных очков, погода.
Он пролистнул страницу и замер, нервно облизнувшись.