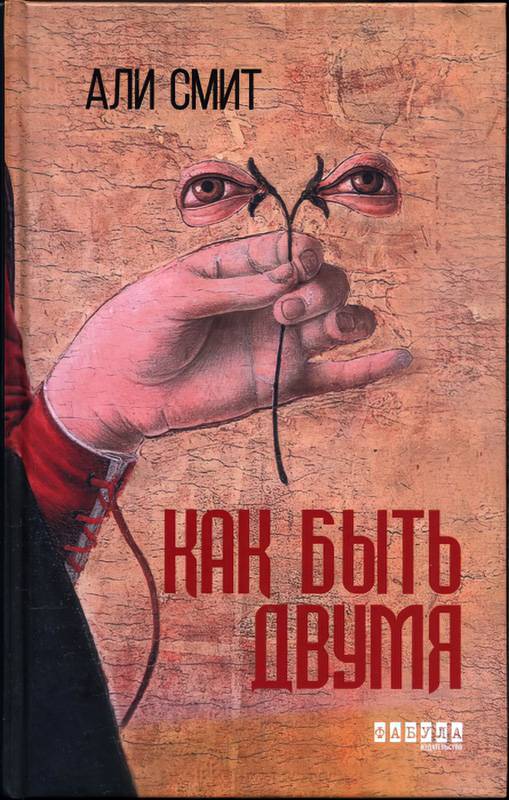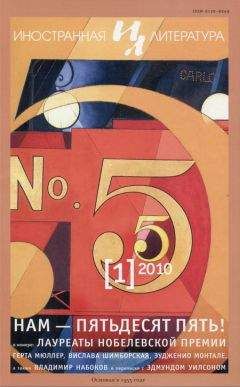эскизам Космо, одна я не входила в состав придворной мастерской): и когда я впервые получила совсем не те деньги, на которые надеялась, то попросила Сокола похлопотать за меня: но он только скорбно взглянул на меня.
Разве вы не получили свою медаль? спросил он, — из чего я поняла, что он никак не может повлиять на ситуацию.
Соколу весьма пришелся по душе его собственный образ, уподобленный святому Джорджо: я давно заметила: видеть себя человеком действия ему нравилось не меньше, чем поэтом: вот почему он покраснел до ушей.
А затем покачал головой, заметив на фреске больных, выбегающих из сумасшедшего дома, волочащих за собой рукава смирительных рубашек и как бы собирающихся присоединиться к палио: покачал он головой и при виде конной охоты маркиза, скачущей вдали: маркиз и его свита неслись прямиком к пропасти, в которую невозмутимо заглядывал пес (эту пропасть я изобразила в просвете между зданиями на переднем плане, и очень гордилась удачной перспективой).
А еще от одного изображения Сокол просто побледнел.
Вот это… проговорил он. Нет… Это нельзя оставлять. Необходимо все менять.
При этом он указал на олицетворение первой декады марта — там, где он просил написать властного стража, хранителя. Я изобразила его в обличье того самого басурманина с веревкой.
Вот это — это плохо даже само по себе, продолжал Сокол. Очень плохо. И вы еще просите, чтобы вам увеличили плату! Франческо! Неужели вы не видите? Что с вашими глазами? Он же прикажет отхлестать вас кнутом. А если я сунусь к нему, чтобы попросить для вас больше денег, — то и меня вместе с вами. Нет, нет, нет. Это необходимо убрать. Счистить. Начните заново. Переделайте.
Я съежилась внутри собственной кожи: какую же я глупость сделала, все кончится тем, что мне не заплатят, прогонят, и мне придется весь следующий год жить в нищете: мне больше не дадут работы при дворе, а с деньгами у меня и без того туго, потому что золотые и синие пигменты обошлись мне в полугодовой заработок: и я уже приготовилась спросить Сокола, кого бы он хотел видеть вместо мятежного басурманина.
Но когда я открыла рот, чтобы задать этот вопрос, то услышала собственный голос: нет.
Сокол, стоявший рядом со мной, вздрогнул.
Франческо! Переделайте это, снова сказал он.
Я покачала головой.
Нет.
А это тоже нельзя оставлять в таком виде, он указал на граций рядом с Венерой. Я имею в виду вон ту. Сделайте ей более светлую кожу. Она слишком смуглая.
Я наделила граций модными прическами: их тела я сделала легкими и живыми — Джиневра и Аньола стояли лицом к зрителю, а Изотта — спиной: я дала им в руки яблоки, нарисовала на двух стройных деревцах несколько букв «V», как бы повторив таким образом форму тех частей тел двух граций, откуда исходит вся человеческая жизнь и множество наслаждений: на каждое из деревьев я усадила по паре птиц: все было подчинено единому ритму: яблоки и груди девушек словно перекликались между собой: и при этом даже та из граций, которую я уподобила Изотте, — именно она бросилась ему в глаза — такая прекрасная и влекущая, не заставила Сокола задержать на ней взгляд, потому что он снова и снова возвращался к неверному в светлых рабочих отрепьях на фоне сияющей голубизны.
И вдруг — о чудо! — в лице Сокола что-то переменилось: он снова покачал головой, но уже иначе.
Затем он попросил, чтобы дали больше света.
Ему посветили факелом.
Он приставил обе ладони к щекам.
А когда он убрал руки, я увидела: Сокол смеется.
Ну и наглость! Ну что ж… А ведь вы в самом деле сделали то, о чем я вас просил, сказал он. Хотя не такую красоту я имел в виду. Посмотрим, посмотрим. Я… я пока не знаю, что сказать, но что-нибудь придумаю. Переключу его внимание вон на того старика, который точно так, как он и хотел, преклоняет одно колено. Борсо вершит справедливый суд, оправдывая старого басурманина.
Благодарю вас, синьор де Присцано, сказала я.
Но и вы, Франческо, в свою очередь, окажите мне парочку услуг, сказал Сокол. Сделайте тому басурманину в сцене суда более темную кожу, чтобы было видно: справедливость нового герцога превосходит все мыслимые ожидания. Но предупреждаю вас. Больше не валяйте дурака, Франческо. Слышите? А эту грацию, что стоит спиной, все-таки сделайте светлее. И мы, может быть, вот именно — может быть, легко отделаемся.
Легко отделаемся — будто я замыслила какое-то тайное надругательство или подстрекательство к заговору: но, положа руку на сердце, скажу: когда я взглянула на свои фрески как бы со стороны — они даже меня удивили тем, что в них открывалось: ведь я, нанося эти образы на сырую штукатурку, подвергла сомнению то, в чем пыталась убедить даже себя: что маркиз будет справедлив, что он, конечно же, увидит и по достоинству оценит мой талант — а как же! — хоть я и изобразила его во весь дух мчащимся к обрыву вместе с егерями и придворными: что поделаешь, ведь жизнь на картине и ее создание — деяние двусмысленное: руки открывают тебе мир таким, каким твои душа и разум его подчас не видят или не хотят видеть.
Сокол все еще качал головой, глядя на неверного: он уже не смеялся: он открыл рот и прикрыл его ладонью.
И он словно спрашивает о чем-то, промолвил Сокол, не отнимая руки от губ, а я говорю, что не знаю, а он говорит, что… что…
Это фигура из французских рыцарских романов, сказала я.
Фигура из какого-то малоизвестного романа, ответил Сокол. Настолько малоизвестного, что он не решится признаться, что понятия о нем не имеет. Ведь все убеждены, что он знает их все наперечет.
Затем Сокол посмотрел мне прямо в глаза.
Но я не смогу добиться повышения вашей платы, Франческо, добавил он. И больше не просите об этом.
Ну что ж, тогда я сама напишу прошение и пошлю ему, думала я, пока Сокол спускался с лесов, обойдусь без посредника.
Маэстро Франческо! крикнул снизу воришка.
Эрколе! откликнулась я.
Я переделывала граций, теперь они не так отчетливо произносили: дай, прими, отдай другому. а просто соответствовали своей роли, и все равно оставались слишком телесными: в конце концов я соскоблила штукатурку, наложила новый слой, но мои грации опять остались человечными, все до единой стали Аньолами — словно тройной портрет в разных позах.
Простите меня! крикнул воришка.
За что? спросила