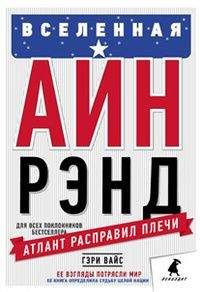- Советская... Коммунаров... Красной Армии... Дзержинского... Капсукаса... Комсомольская... Я в Вильне таких улиц не знаю... Я никогда по ним не ходил и ходить не буду... Я хожу по Стефановской... по Завальной... по Калварийской... - частенько говорил он отцу, когда расфранченный, надушенный, с бабочкой-летуньей на шее, с нафабренными усами приходил к нам в дом на субботний обед.
После трапезы, во время которой пан Юзеф, как истый шляхтич, осыпал пани Хену похвалами и комплиментами, он отправлялся с паном Кановичем, как он выражался, "на моцион", на ту самую площадь, где когда-то граф Муравьев-вешатель намыленной веревкой пытался задушить не только двух мятежников, но и на все времена польский гонор и польское достоинство.
Извинившись перед паном Кановичем, командир "еврейского эскадрона" в задумчивости отходил в сторонку, застывал в скорбной позе у мемориального камня, снимал выцветшую фетровую шляпу, кланялся Сераковскому и Калиновскому, вытирал шляхетской рукой пыль с надписи, высеченной на чужом, пусть и славянском, языке и, брезгливо зажав породистый нос, басил:
- Нехорошо, пан Канович, нехорошо.
- Что нехорошо, пан Юзеф?
- Нехорошо, когда от памятников героям-висельникам пахнет мочой. Надеюсь, на пана Владзимиежа никто мочиться не посмеет.
- Но пану Владзимиежу пока еще памятник не поставили...
- Не беспокойтесь, пан Канович. Поставят, поставят... Вильно не будет исключением. Во всех городах Восточной Европы он уже стоит - встанет и у нас. Может, даже тут, на Лукишкской площади. Всяких ...овских уберут, а ему, не сомневайтесь, воздвигнут из мрамора или бронзы. Бьюсь с вами об заклад.
Обычно пан Юзеф ни с кем так не откровенничал, но в разговорах с отцом позволял себе разные вольности. Ему нравились замкнутость и собранность демобилизованного солдата-портного, умение слушать, не задавать лишних вопросов, не лезть в душу.
Дружба с паном Глембоцким отцу льстила. Особенно он ценил поразительную верность пана Юзефа прошлому. Казалось, "врио" весь был там - в довоенной Польше: корпел, как прежде, в швейном ателье своего первого учителя Пинхаса Кадило на углу Аллей Уяздовских в Варшаве; вскакивал в извозчичью пролетку в Вильне и с привокзальной Липовки мчался на свидание к своей возлюбленной Малгожате к ресторану "Зеленый луч", который славился французской кузней и французскими винами. Прошлое пьянило его, как легкий "шартрез" или солнечное "Клико"; оно было его единственным утешением и спасением от настоящего - от ненавистной действительности с ее ежедневными страхами, очередями, с переиначенными названиями улиц, наспех поставленными памятниками и введенными навсегда (навсегда ли?) новыми законами и правилами.
- Пан Канович, не помню, у кого я вычитал одну великолепную мысль, бывало, говорил он, когда они оставались наедине, на всякий случай приписывая свою крамолу какому-нибудь вымышленному автору, жившему сто или двести лет назад. - Только воспоминания... слышите... только воспоминания никакой захватчик не в силах оккупировать. Ни немцы, ни эти... В воспоминаниях ты всегда свободен... никого не боишься... При желании можешь впускать туда кого угодно и кого угодно изгонять. Вы себе не представляете, пан Канович, скольких я уже оттуда изгнал. Но, к нашему с вами несчастью, туда еще много, очень много нечисти проникает... Лезут и лезут, как тараканы из щелей... Чтобы полностью очистить от этой мрази наши головы... наши души... нашу землю, одной жизни не хватает. Но, покуда мы живы, надо сопротивляться, чтобы настоящее не захватило наше прошлое.
- У нас, у евреев, пан Юзеф, все наоборот: настоящее давно и бесповоротно оккупировано прошлым, - возражал отец.
Но пан Глембоцкий гнул свое: то, что прошло, всегда лучше того, что выросло и вырастает на слезах и крови.
Он не был провидцем, но в одном оказался прав - Вильнюс не стал исключением из правил: на старой Лукишкской площади строители в спешном порядке приступили к сооружению памятника Ленину.
Стройка длилась год. Памятник вождю отлили далеко от Литвы и, как уверял свояк Шмуле, шесть суток везли через всю страну в специальном вагоне, как еще совсем недавно возили приговоренных к каторге.
Ленин же был приговорен к вечной и нетленной славе.
Незадолго до открытия памятника, приуроченного, как водится, к очередной славной годовщине советской власти в Литве, пан Юзеф Глембоцкий скончался.
Он не дожил до всенародного торжества всего лишь полгода.
Из-за похорон генералиссимуса Сталина, умершего в тот же день, что и бывший хорунжий Войска Польского, погребение пана Юзефа отложили на два дня.
Хоронили его на кладбище Росу, где покоилось сердце его великого тезки - маршала Пилсудского.
На похоронах - несмотря на мартовскую метель и гололед - собрался весь "eskadron zydovsky", кроме Цукермана, приговоренного за "связь с израильской разведкой" к десяти годам лагерей строгого режима и конфискации всего имущества.
Подпольщик Хлойне, потративший все свои слезы на усопшего Сталина, от имени профкома и парткома треста, глотая, как таблетки, залетавшие в рот снежинки, произнес над открытой могилой прочувствованную речь:
- Прощайте, дорогой пан Глембоцкий! Вы не были поляком, вы не были евреем. Вы были, как сказал Горький, Человеком с большой буквы. Бог обделил вас милостью при жизни, пусть Он исправит свою ошибку после вашей смерти. Память о вас останется в наших сердцах навеки. Прощайте и простите.
Он нагнулся, набрал горсть свежей глины, шагнул к краю могилы, поскользнулся и в тяжелом пальто, без шапки грохнулся в вырытую яму прямо на заснеженный гроб.
Могильщики долго вытаскивали его - измазанного, заплаканного, подавленного нелепым падением, не сулившим бывшему подпольщику ничего хорошего. Отделавшийся только ушибами, он виновато улыбался, как будто просил прощения у всех - и у покойника; и у Цукермана, угодившего не без его помощи на десять лет в лагерь; и у Господа Бога, которого он за долгие годы подпольной жизни напрочь забыл и только сейчас мимолетно вспомнил.
Хлойне смахнул с бровей сосульки, громко и горестно высморкался, лицо его вдруг утратило угрюмость, посветлело, словно умылось раскаянием и страданием, и всем сослуживцам стало жалко товарища Левина, а отцу - неловко за свои подозрения; захотелось сказать Хлойне что-то доброе, но он не находил слов, только пялился на озябшую ворону, косившую с сосновой ветки потусторонним немигающим взглядом на могилу. Подпольщик Хлойне и ворона были, как ни странно, неуловимо похожи, и, казалось, при первых размашистых, скрипучих гребках лопаты по смерзшейся глине оба взмоют в небо - сперва крыльями взмахнет птица, потом фалдами зимнего пальто на ватине - Хлойне - и скроются за тучами, лениво плывущими над посверкивающими кладбищенскими молниями - железными крестами.
Смерть пана Глембоцкого совпала с началом строительства памятника Ленину, и в этом совпадении для моего отца был какой-то горестно-предостерегающий знак, умещалось какое-то невнятное, но тревожное назидание. И не потому, что тихая площадь заполнилась грохотом грузовиков и землеройных машин, и не потому, что над ней денно и нощно, застя солнечный свет, висела густая пыль, а на щитах, там и сям, по-русски и по-литовски чернели угрожающие надписи: "Стой! Прохода нет!", а совсем по другой причине, может, им и не осознанной до конца: настоящее, то самое ненавистное пану Юзефу настоящее, легко и упоенно побеждало воспоминания, отвоевывая у них все новые территории и заселяя их теми, кого так хочется оттуда изгнать.
Отец понимал, что площадь преобразится, станет красивей, что со всего города сюда хлынут толпы. Но это будет уже не его площадь. И не пана Глембоцкого в фетровой шляпе и с розой в шляхетской руке; и не двух несчастных висельников - Сераковского и Калиновского; и не пьяниц-забулдыг, безнаказанно спросонья писающих на мемориальный камень; и не тех неказистых деревьев, которые пока еще безмятежно росли по краям площади и которые обязательно выкорчуют и заменят молодыми.
Он по-прежнему совершал свои субботние прогулки, но теперь выбирал для них другие места, подальше от дома и от изуродованной кранами и суетой площади, - прогуливался по набережной, пахнущей речной прохладой, или по горе Таурас, с которой открывался вид на город, утыканный, как огромными иглами, шпилями костелов. Иногда, не дождавшись Нисона или не уговорив свояка Лейзера, он брал с собой на прогулки меня и своим молчанием и частыми остановками испытывал мое терпение. Идет, бывало, вперит взгляд в прохожего и, пока тот не скроется из виду, смотрит ему вслед.
- Папа! - говорил я. - Неудобно так пялиться... Люди бог весть что подумают...
- А что они обо мне могут подумать?
- Что ты оттуда, откуда дядю Шмуле выгнали... или из отдела борьбы с хищением социалистической собственности - ОБХСС... И потом - что за странность: смотришь только на мужчин, а на женщин - ноль внимания?