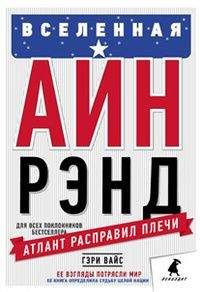- Но я как коммунист... как человек не могу оставаться равнодушным, обличал самого себя бывший подпольщик. - Не имею права. Нельзя допустить, чтобы люди, которые подмечают все наши недостатки, потешались над святым, над Владимиром Ильичом...
- Еще, Хлойне, неизвестно, что для человека полезней, - рассудительно заметил осторожный Диниц, - памятники воздвигать или смеяться...
- Взять Узбекистан. Или Китай. Там же над Лениным никто не смеется, вставил кинолюбитель Рафаил Драпкин. - Хотя...
- Хотя что? - окатил его презрением подпольщик.
- Хотя могли бы. Очень даже могли бы.
И новобранец принялся рассказывать Хлойне, что где-то в Средней Азии бронзовый Ленин стоит с двумя легендарными кепками, одна - в руке, другая на голове, и к тому же национальным поясом перепоясанный; а в какой-то китайской провинции с мраморного постамента косит глазами, как чистокровный китаец. И бородка у него не русская, а китайская - пучок укропа.
Хлойне слушал его снисходительно-брезгливо.
- Если то, о чем ты, Шлейме, нам рассказал, правда, о ней надо немедленно уведомить наш Центральный Комитет партии... товарища Снечкуса... Я с ним тоже вместе сидел... Это же прямое надругательство над вождем!
Отец уже жалел, что рассказал им про эти злосчастные пуговицы, но умерить прыть Хлойне, обуздать его верноподданнический порыв он не мог.
- Никого, Хлойне, уведомлять не надо, - посоветовал отец. - Они же там не портные.
- Как это - не надо? Пусть хоть накажут разгильдяев! - хорохорился подпольщик.
- Самих себя, что ли? - поддел его Диниц. - Они же памятник принимали. В комиссии, наверное, нет ни одного портного...
- Предлагаю обратиться туда с письмом. Так, мол, и так. "Дорогие товарищи, мы, портные города Вильнюса, беспартийные и коммунисты, обсудив создавшееся положение с памятником нашему вождю, считаем своим долгом..."
Он говорил гладко, чиновно-благозвучно, как будто свои округлые, вылущенные слова только что выписал из непогрешимой московской "Правды" или местной "Советской Литвы".
- Не выдумывай! - оборвал его Диниц. - Наше дело - иголкой тыкать, а не пером строчить. Ты бы еще предложил черкнуть в Кремль...
- А что, могу и в Кремль, - не растерялся Хлойне. - И подписи мигом организую. Сто подписей. А если поднатужусь, и полтыщи.
Отец от такой Хлойниной прыти совсем сник. Ведь вовсе не затем он им эту историю с пуговицами рассказал, чтобы старый подпольщик, верный ленинец, носился по городу и собирал подписи, не затем, чтобы жаловаться "нашему ЦК" и снискать благосклонность чиновников, которые в портновском деле ни бельмеса не понимают. Он рассказал им эту историю для того, чтобы как-то скрасить будни и чтобы - хоть на день, хоть на час - стало веселее жить.
Он, конечно, никакого письма не подпишет. Это Хлойне Левину на свою подпись наплевать, а он ни за что не подпишет. Надо было бегать по городу и собирать подписи, когда из ателье на Троцкой на каторгу уводили хуторянина-хромоножку Цукермана. А сейчас он и пальцем не пошевелит - пан Владзимиеж, как сказал бы покойный Глембоцкий, "в защите беззащитных" не нуждается.
Весь день в мастерской спорили до изнурения, но к единому мнению не пришли. Единственное, на чем спорщики сошлись, так это на том, что в первый же выходной встретятся на Лукишкской площади, осмотрят на месте бронзовое пальто и решат, что им делать дальше.
- На всякий случай я набросаю текстик письма, - не унимался Хлойне.
- Если тебе делать нечего, набрасывай, грамотей, - ехидно сказал Диниц.
В воскресенье в условленный час на площади собрался не только весь "eskadron zydovsky", но и портные из других вильнюсских ателье.
Был среди них и брат отца - дамский портной Мотл, который привел с собой почти весь самодеятельный еврейский театр - драматическую труппу, танцевальный ансамбль и оркестр, - хорошо еще, музыканты явились без инструментов.
- Твоя работа? - подойдя к Хлойне, хмуро спросил отец.
- Чем больше людей, тем лучше. - Подпольщик понурил голову, уклонившись от прямого ответа.
- Я спрашиваю: твоя работа? - наступал отец.
- Я позвонил только барабанщику Файвушу из оркестра... моему земляку.
- Он и "разбарабанил" на весь город? А ты не подумал, что наша шайка может показаться подозрительной, - сказал отец и через плечо ткнул пальцем в серое здание Комитета госбезопасности.
- Шайка? - скуксился Хлойне.
- Кое для кого три еврея, собравшиеся вместе, - уже шайка. Митинг.
- Ты, Шлейме, любишь преувеличивать. Какой митинг? Какая шайка?.. Мы же на баламутов... на тех, кто на плакатиках малюет "Отпусти мой народ!", не похожи, - выдохнул Хлойне и расстегнул ворот рубахи. - Мы же от чистого сердца. И ты, и твой брат, и Диниц, и Эльяшев с Большой, и Лившиц с Садовой, и Грин с проспекта Красной Армии, и барабанщик Файвуш... Все, все...
- От чистого, не от чистого - нечего скопом глаза мозолить!
- Кому?
- Не строй из себя дурачка! Как будто не знаешь...
- Так что, расходиться?
Хлойне не хотелось уходить. Он готовился действовать, витийствовать, обсуждать, убеждать, требовать, предлагать, отстаивать, добиваться, наводить порядок, бороться. Тут, на площади, он чувствовал себя, как в молодости, борцом, воителем с мировой несправедливостью, а не заурядным портняжкой, корпящим над чьими-то галифе и жилетками. Уход с площади не солоно хлебавши лишал его возможности напомнить о себе, о своих прошлых, недооцененных заслугах. Не затеряться в ателье на углу Троцкой и Завальной и хотя бы ненадолго ощутить полузабытую сладость борьбы, за которую он когда-то жертвовал своей свободой, расплачивался долгими годами тюрьмы! Хлойне из последних сил цеплялся за последнюю возможность - за фалды ленинского пальто, за нелепо, по-женски пришитые пуговицы...
Глядя на него, съежившегося, как кладбищенская ворона на морозе, отец смягчился и примирительно бросил:
- Диниц прав. Пусть пока стоит в таком виде, в каком его поставили.
- Пока? Что ты этим хочешь сказать?
- А что ты хочешь от меня услышать? Разве я неясно выразился?
Хлойне ничего не ответил.
Кино с Лениным в женском пальто кончилось.
Люди покачали головами и смирно разошлись.
Только Хлойне не двигался, как будто сам был памятником своему далекому, оставшемуся за железной решеткой прошлому. В глазах у подпольщика сверкали слезы обиды и укора. Огромная тень бронзового вождя падала на его плечи, на его мысли...
Пан Владзимиеж в своем подпорченном пальто простоял долго, пока время лучший портной в мире - все не перелицевало...
- Это, Гиршке, правда? - спросил меня перед самой смертью отец.
- Что?
- Дора по телевизору слышала, что литовцы собираются убрать пана Владзимиежа с площади.
- Да, собираются... - подтвердил я.
Отец облокотился на подушки, почмокал высохшими губами, провел рукой по седым густым, как в юности, волосам, взглядом попросил, чтобы я придвинулся поближе к нему, и негромко, как бы стесняясь своих мыслей, сказал:
- Но, наверно, Гиршке, не из-за того, что пуговицы на пальто не так пришиты...
И улыбка прытким солнечным зайчиком скользнула по его бескровному лицу. Скользнула и через миг исчезла.
Больше я его улыбающимся никогда не видел.
Порог надежды
- Что, Гиршке, слышно? Как там наш Ной? - буднично допытывался он, глядя на меня своими печальными, выжженными трахомой глазами.
- Ничего, - ответил я с деланной бодростью и на всякий случай отвел в сторону взгляд, чтобы не выдать себя.
- Подрос, наверно?
- Подрос, - ответил я.
На пороге прихожей стояла съежившаяся Дора Александровна и, как военный цензор, ловила каждое мое слово, боясь, как бы я случайно не проговорился. Время от времени она за спиной отца делала мне какие-то предупредительные знаки, многозначительно и обиженно вскидывала голову: мол, Сламон Давидович ничего не должен знать. Живые, и те, мол, не всегда должны все знать, а уж умирающие и мертвые вообще ничего знать не должны. Ни хорошего, ни дурного.
- Неужели так трудно его сюда привезти? Ведь у Сережи машина...
- Они, папа, заняты, как и все молодые... - пробормотал я и снова отвел взгляд. Не скажешь же ему - чем заняты. Пусть он сойдет в могилу спокойно, ничего не узнав. Хватит с него собственных несчастий. Если Ноя удастся спасти, я среди ночи прибегу. Хорошие новости ни от кого не утаишь. Хорошие новости сами о себе напоминают, на каждом углу на разные лады кричат...
- Заняты, - прохрипел отец. - Все заняты... Даже костлявая... К брату Мотлу пришла, к часовщику Нисону пришла, к гиганту Лейзеру пришла, а ко мне не приходит и не приходит...
- И радуйся... Она не лучшая гостья, - сказал я и глянул на часы.
- Спешишь?
- Не очень, - неопределенно протянул я.
- Я тебя понимаю: противно смотреть на умирающего... даже на родного отца. Но ты и меня, Гиршке, пойми... Лежу один и маюсь... На кладбище, по-моему, и то веселей. Столько знакомых!
Мачеха поморщилась, фыркнула от обиды. Один, видишь ли, лежит и мается... А она где? Целыми днями из кожи вон лезет, на части разрывается, чтобы помочь ему, но все равно - какая неблагодарность! - для него она вроде бы и не существует. Все другие существуют: и невестка, и сын, и внук Сергей с женой Юргой, и правнук Ной, и живущий в Канаде старший внук Дима, и сестра Лея, уехавшая сто лет тому назад в Америку, и умершие брат Мотл, свояки Шмуле Дудак и Лейзер Глезер, и болтун Нисон Кравчук, звонивший десять раз на дню, и, конечно, Хена. А ее, Доры, нет. Он лежит на диване и назло ей с утра до вечера пялится на фотографию своей первой жены.