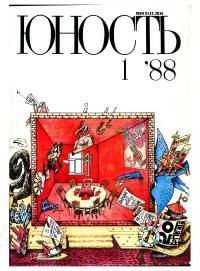По ее лицу видел он, как она старается припомнить.
- Видишь… Но это чу-точку только, мреется чуть-чуть-чуть…
Она сложила ладони и возвела глаза - молилась словно.
- Видишь…- зашептала она, как будто боясь спугнуть вспомнившееся из сна,- я видела все вещи у нас в Уютове… и дом, и елки, и цветы… камушки даже помню и колодец… но все совсем другое! Подумала я…- вот - святое, чистое творение Господне… Этого нельзя рассказать. Ж и в о е!.. Струится, льется… в елках даже зеленое струится, и все видно, будто прозрачное… вот как через пальцы смотреть на солнце… духи вот в стеклянных уточках продают, в олениках… Я всегда любила смотреть, всегда мечтала, вот бы тетя купила мне… и теперь люблю… Такая чистота… щуриться надо, а то слепит. И в самую минутку, как мне проснуться, подумалось, во сне: вот это без г р е х а, и надо, чтобы все было чистое, тогда все будет». Не думала ни о чем, когда задремывала, и вот т а к о е…- сказала она, дивясь.- А теперь думаю.
- Что же ты думаешь?
- Думаю… - говорила она мечтательно,- это не жизнь, как все живем. Надо совсем другое…
- Что же другое?
- Как это верно, как чудесно!..- воскликнула она, всплеснув руками.- Так понятно открылось мне, а во сне будто и ответилось, какая должна быть жизнь. Такая красота… снилось-то! все живое, и все струится! А это…- огляделась она,- мутное, темное… неживое. Нет!..- страстно воскликнула она и так мотнула головой, что лежавшие на батистовой кофточке каштановые ее косы разметались.- Подумать только, какие простые слова, как надо: «Да отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет»! Тут все как надо. Каждому дан крест и указано, что надо: н е с т и, идти за Ним. И тогда все легко, всем. И это совсем просто. А думают, что жизнь… чтобы ему было хорошо. И я так думала, маленькая когда… А потом стала всего бояться… Ведь я…- в глазах ее выразился ужас,- тогда… Я сказала тебе не все. Самого страшного и не сказала… и самого…
Он перебил ее, чего-то страшась, может быть, позорного для нее:
- Не все?!.. Самого страшного… и?.. Ты сказала еще - «и самого…» что же еще было, чего ты не сказала?..- «и самого»?..
- …чудесного!..- досказала она чуть слышно.
Она прикрыла глаза, как будто свет от лампы мешал ей видеть то - «самое страшное н самое чудесное». Ее губы сжались и покривились, словно она выпила горького чего-то.
- Слушай… Дай мне руку… мне легче так. В ту ночь… помнишь?., до нашей встречи на бульваре?.. Я побежала к Москве-реке и все молилась, рекой ревела: «Ма-менька, спаси… маменька, возьми меня!..» Добежала до Каменного моста. А река темная-темная, чуть серая… шорохом так шумела. Тогда ведь лед шел, самое водополье, в воскресенье на масленице… нет, что я путаю… Вербное было воскресенье! взбежала на мост, перегнулась за решетку… и мне совсем не страшно… так и уплыву со льдинками куда-то… все страшное кончится. И уже свешиваться стала, сползать, туда… и - вдруг… ч т о-т о схватило меня сзади, под поясницу, как обожгло!.. н я услыхала строгий окрик: «Глупая-несчастная!.. ты что это, а?!..» И оторвало меня, откинуло будто от решетки. Со страху я обмерла, вся трясусь… А это старичок бутошник… топает на меня и грозится пальцем… строго-строго! Как раз под фонарем было, где выступ, круглый-каменный, бык там у моста. Увидала его лицо… и прямо ужас!.. Будто это не бутошник, а сам Никола-Угодник!.. ну, совсем такой лик, как на иконах пишут… темный, худой, бородка седенькая, а глаза и строгие, и милостивые. Топает на меня и все грозится… и бранится даже, как вот отчитывает: «Ах, ты, самондравка-самоуправка, надумала чего!.. сейчас же ступай к своему месту!.. а, беспризорная несчастная!..» Взял меня за руку и довел до Пречистенского бульвара, тихонько так в спину толкнул: «Так прямо и ступай, не оглядывайся… я послежу, завтра сам приду справиться!..» А мне идти-то и некуда… И сказать-то ему страшусь. Я и побежала, все прямо, прямо… не помню, как уж я три бульвара пробежала… упала на лавочку, дыханья уж у меня не стало. Смотрю, а это наш Страстной монастырь!..- помню, часы пробили три раза. А я все думала за тот вечер: зайду, помолюсь в последний разок… и не зашла, со страху. И тут, на лавочке, думала: отопрут к утрени врата, зайду помолюсь… а дальше чего, я уж не думала, А тут ты и подошел. Я
з н а ю, это Святитель Николай-Угодник от гибели меня спас… того старичка-бутошннка послал, глухою ночью. Ни души не было, как раз строгая ночь, на святой и Великий понедельник. С того часу сколько раз думала я… может быть, Николай-Угодник и послал тебя?.. И страшилась недостоинства моего. Помнишь, т о г д а… на величании под Николин день, у меня помутилось в голове, едва поднялась на солею благословиться у матушки Руфины уйти из храма: по немощи?.. Это от великого страха помутилось, что о тебе мечталось, а уста пели хваление ему в рассеянии сердца… а он оградил меня!.. Знаешь… сколько раз я потом ходила к Каменному мосту, когда уж у тебя жила, все хотела того старичка-бутошника увидеть… так и не увидала. Видишь, сказал-то он,- «самондравка-самоуправка»?.. Это - что я свой крест-то швырнуть хотела! Уж так мне ясно теперь, все теперь просветилось, и мне хорошо, легко. Теперь я знаю, что надо… и теперь вижу, какая должна быть жизнь… и так и буду!..
Она выговорила последние слова с силой, почти с восторгом. Виктор Алексеевич, потрясенный ее живым рассказом, целовал ей руки и говорил: «Чистая моя… мудрая…»
В тот поздний вечер он понял, что она «победила» его, владеет им. Через этот рассказ ему почти открылось -сердцу его открылось,- что его жизнь предначертание связана с ней, до конца. Этот жуткий ее рассказ приводил в стройное все «случайное» в эти последние два года его жизни. Надо же было т а к случиться!..
Возбуждение Дариньки от рассказа о «страшном и чудесном» сменилось слабостью. Она попросила едва слышно дать ей вина. Ои налил ой шампанского, все эти дни подкреплявшего ее силы, по совету врача. Она на этот раз выпила весь бокал. Он держал бокал, а она пригубливала глоточками и любовалась струившимися иголочками, игравшими в шепчущем шампанском.
- Вот совсем такое, струйчатое, живое… видела я во сне…- говорила она, любуясь, и неожиданно засмеялась, вспомнив: «Шампанское с сахаром», смешную акушерку - смешную в страшном.
Удивленный неожиданным ее смехом, узнав, почему она смеется, он вспомнил тот «страх», подползавший к Дариньке в жутко-туманном облике, на мохнатых лапах, и чудесное избавление ее от смерти. Он вновь пережил тот страх, то чудесное избавление от смерти…- пережил, кажется, острей, чем тогда. Теперь ему стало совершенно ясно, что это было
ч у д о, и почему было это чудо, и почему было даровано им обоим. Записал в дневнике:
«…Конечно, не ради нашего «счастья»: такое маленькое оно в сравнении с этим даром. Все, что свершилось, было закономерно, с прикровенно-глубоким смыслом. Для чего же? Она знает и верит, что для большего, важнейшего. И она права: только с этим, важнейшим,
ч е м - т о, соизмеримо все».
То, что вписал он в дневник, уже ясно было ему в тот самый вечер, к концу ее рассказа. Он мысленно увидал бесспорность такого вывода и понимал - тогда же,- что эта бесспорность была не плодом доводов рассудка, а ими обоими выстраданной правдой. В самый тот час, когда, мартовской ночью, во всем отчаявшись, решил он покончить с «обманом жизни» и видел исход в «кристаллике»…- запуганная и загнанная неправдой этой жизни, одинокая девушка-ребенок, тоже во всем отчаявшись, увидала исход в кипящем ледоходе. «Если не э т о в с е, что же тогда мог бы признать я чудом?!..»- спросил он себя. И ответил себе, как бы наитием: «Она разгадала все, иной разгадки и быть не может». И воскликнул, как бы осязая веру:
- Ты права! Только так - все осмыслено, оправдано!..
- Что - все?..- спросила она, смотря на игру в бокале.
- В с е…- обвел он вокруг рукой,- и наше личное, и все, в с е… самое простое и самое чудесное!..
- Хочу спать…- услыхал он дремотный голос и увидал, что глаза ее сомкнулись, бокал выскользнул из ее руки и катится с диванчика на ковер.
Поднял его и поцеловал. Привернул лампу и тихо пошел к себе.
Виктор Алексеевич не ожидал, что рассказ Дариньки о случившемся с нею ночью на Каменном мосту так его оглушит.
Захваченный ее горячей верой, отдавшись чувству, он принял это «почти как чудо». Но когда у себя стал проверять его доводами рассудка, показалось ему чудовищным это «чудо с бутошником». Бутошник и Угодник никак в нем не совмещались. Несомненно, что все это - галлюцинация девочки, запуганной ужасами жизни, болезненный след рассказов богомолок про чудеса. Его стало смущать, что начинает прислушиваться в себе к голосу чуждого ему «мистического инстинкта».
С тем он и проснулся утром: «Бутошпик, страшно похожий на Николая-Угодника… что за вздор!»