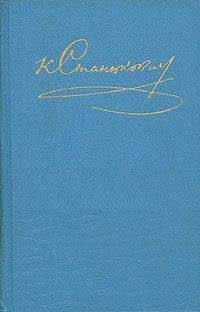И, раскрывая книгу, прибавил:
— Морскому офицеру надо стараться быть образованным человеком и интересоваться всем… Тогда и свое дело будет осмысленнее, а вы вот… опаздываете и точно недовольны, что я с вами занимаюсь!
— Помилуйте, ваше превосходительство, мы, напротив, очень довольны! — проговорил «потомок».
Адмирал стал читать одну из глав Шлоссера. Читал он недурно, с увлечением, подчеркивая то, что считал нужным оттенить. Несколько человек слушали с вниманием. Остальные, делали вид, что слушают, неустанно курили и думали, как бы скорее он кончил.
— Да, мои друзья, — заговорил адмирал, прерывая чтение и уставляя глаза на первое попавшееся лицо слушателя, — гениальный человек был Наполеон… Этот немец Шлоссер его не совсем понимает… Вот Тьера прочтите…
Ивкова так и подмывало заявить, что Наполеон, собственно говоря, был великий подлец, и более ничего, который задушил республику и стал тираном. Но он благоразумно решил промолчать. Все равно «глазастого» не убедишь, а он знает, что знает. И Леонтьев того же мнения, что Наполеон подлец, хоть и великий человек… И Подоконников так же думает.
— Да, большой гений был, а флота создать не умел… Англичане всегда били французов на море… Вот хоть бы это Абукирское сражение. Вы, конечно, не знаете Абукирского сражения?.. Вот Ивков стихи пишет и разные глупости читает… романы всякие… а Абукирского сражения тоже не знает!
И адмирал стал рассказывать об Абукирском сражении и — надо отдать ему справедливость — так ярко и картинно, несмотря на недостаток красноречия, нарисовал картину боя, что даже самые невнимательные слушатели в те оживились и внимали с интересом.
— Вы думаете, отчего французов поколотили под Абукиром, хотя французская эскадра была не слабее английской и французские матросы нисколько не уступали в храбрости английским? Отчего везде на море французов били?
И так как ни один из слушателей не отвечал, не рискуя за неправильный ответ быть оборванным, то адмирал, выдержав паузу, продолжал:
— Оттого, что у французов были в то время болваны морские министры и ослы адмиралы… Они заботились о карьере, а не о флоте и обманывали Наполеона… И у французских моряков не было настоящей выучки, не было школы и того морского духа, который приобретается в частых плаваниях… Помните это, господа!.. Без хорошей школы, без плаваний, во время которых надо учиться, чтобы быть всегда готовым к войне, нельзя одерживать побед!
Проговорив это поучение, адмирал принялся читать.
Против обыкновения, сегодня он отвлекался менее и не рассказывал, придираясь к какому-нибудь случаю, разных эпизодов из службы на Черном море. Часа через полтора адмирал закрыл книгу и проговорил:
— На сегодня довольно.
Не было и экзамена. И все нетерпеливо ждали обычного «можете идти», но адмирал, видимо, еще хотел, как он выражался, «побеседовать с молодыми друзьями» и сказал:
— Вот я сегодня перевел в океане офицеров с судна на судно. Как вы полагаете, почему я это сделал?
Все «молодые друзья» полагали, что сделал он это потому, что был «глазастый дьявол» и «чертова перечница». Почему же более?
Не рискуя высказаться в таком смысле, все, разумеется, молчали.
И адмирал, казалось, понял, что думали «молодые друзья», и проговорил:
— Вы, конечно, думаете: адмиралу пришла фантазия, он и сделал сигнал? Нет, мои друзья. Я сделал это, чтобы вы все на примере видели, что всегда каждый из вас должен быть готов, как на войне… И знаете ли, что я вам скажу…
Но в эту самую минуту, как адмирал собирался что-то сказать, через открытый люк адмиральской каюты донесся нервно-тревожный и неестественно громкий окрик вахтенного офицера:
— Марса-фалы отдай! Паруса на гитовы! Право на борт!
В этом окрике слышалось что-то виноватое.
Вслед за тем в адмиральскую каюту вбежал вахтенный гардемарин и доложил:
— Шквал с наветра!
Адмирал, схватив фуражку, бросился наверх, крикнув Ваське закрыть иллюминаторы.
Довольные, что шквал так кстати прервал адмиральскую беседу, гардемарины выскочили из каюты, не предвидя, конечно, что этот шквал будет началом такого адмиральского «урагана», которого они не забудут во всю жизнь.
X
Жесточайший шквал с проливным крупным дождем уже разразился, словно бешеный, внезапно напавший враг, над маленьким трехмачтовым корветом в двести тридцать фут длины.
Окутав «Резвый» со всех сторон серой мглой, — точно мгновенно наступили сумерки, — он властно и шутя повалил его набок всем лагом и помчал с захватывающей дух быстротой.
Вздрагивая и поскрипывая своим корпусом, накренившийся до последнего предела корвет чертит подветренным бортом вспенившуюся поверхность океана. Он тут, этот таинственный океан, страшно близко, кипит своими седыми верхушками. Дула орудий купаются в воде. Палуба представляет собою сильно наклоненную плоскость.
Рев вихря, вой его в вздувающихся и бьющихся снастях и в рангоуте и шум ливня сливаются в каком-то адском, наводящем трепет концерте.
Молодые, неопытные моряки переживали жуткие мгновения. Казалось, вот-вот еще накренит корвет, и он в одно мгновение пойдет ко дну и со всеми его обитателями найдет безвестную могилу.
И многие тихонько крестились.
По счастью, в момент нападения шквала успели убрать фок и грот (нижние паруса) и отдать все фалы. Таким образом, площадь парусности и сопротивления была значительно уменьшена, и шквал, несмотря на мощную свою силу, не мог опрокинуть корвета и только в бессильной ярости гнул брам-стеньги в дугу.
Зато, словно обрадованный людской оплошностью, он с остервенением напал на паруса, не взятые на гитовы (не подобранные). В одно мгновение большой фор-марсель «полоскал», изорванный в лоскутья, а оба брамселя, лиселя с рейками и топселя были вырваны и, точно пушинки, унесены вихрем.
Вахтенный офицер, молодой мичман Щеглов, прозевавший подобравшийся шквал и потому слишком поздно начавший уборку парусов, стоял на мостике бледный, взволнованный и подавленный, с виноватым видом человека, совершившего преступление.
Ужас при виде того, что вышло от его невнимательности, смущение и стыд наполняли душу молодого моряка. Он сознавал себя бесконечно виноватым и навеки опозоренным. Какой же он морской офицер, если прозевал шквал? Что подумает о нем адмирал и что он с ним сделает? Что скажут товарищи и Михаил Петрович за то, что он так осрамился? И нет никакого оправдания. Ведь он видел это маленькое серое зловещее облачко на горизонте и — что нашло на него? — не обратил на него внимания…
В эту минуту молодому самолюбивому мичману казалось, что после такого позора жить на свете и влюбляться в каждом порту решительно не стоит.
С чувством смущения и виноватости смотрели на клочки фор-марселя и на сломанные брам-реи и капитан, и старший офицер, и старший штурман, выскочившие наверх и стоявшие на мостике, и старый боцман на баке, и все старые матросы.
Каждый из этих людей, дороживших репутацией «Резвого», как исправного военного корабля, и считавших себя как бы связанными с ним тою особенною любовью, какую чувствовали прежние моряки к своему судну, понимал и еще более чувствовал, что «Резвый» осрамился, да еще на глазах такого моряка, как адмирал, и такого соперника, как «Голубчик», и каждый словно бы и себя считал причастным этому сраму.
И на виновника его было брошено несколько десятков сердитых и укоряющих взглядов. «Осрамил, дескать!»
Даже совсем неморяк, невозмутимый флегматик, белобрысый доктор, шибко струсивший в тот момент, когда повалило корвет, и тот, когда страх прошел, при виде сердитых, но не тревожных лиц начальства, неодобрительно покачал головой и заметил, обращаясь к тетке Авдотье:
— А еще считает себя моряком!
— И попадет же Щеглову! — промолвил в ответ лейтенант Снежков. — Из-за него и всем нам въедет, — испуганно прибавил он.
Обыкновенно веселый и добродушный наверху, капитан Николай Афанасьевич был сильно раздражен.
— Прозевали шквал!.. Полюбуйтесь, что наделали… Эх! — сдерживая злобное чувство, кинул капитан, подходя к Щеглову и искоса поглядывая тревожными глазами на адмирала, стоявшего на другом конце мостика и уже поводившего плечами…
«Будет теперь история!» — подумал он, поднимая голову и озирая рангоут.
Старший офицер Михаил Петрович, взволнованный не менее самого Щеглова, ничего не сказал ему, но только бросил на него быстрый взгляд из-под очков, но, господи, что это был за уничтожающий взгляд! Глаза добрейшего Михаила Петровича в это мгновение сверкали такой ненавистью, что, казалось, готовы были разорвать в клочки мичмана, «опозорившего» корвет.
«И ведь новый фор-марсель был!» — пронеслось в ту же секунду в голове старшего офицера, этого заботливого ревнителя и хозяина «Резвого», я он громко, сердито и властно крикнул на бак: