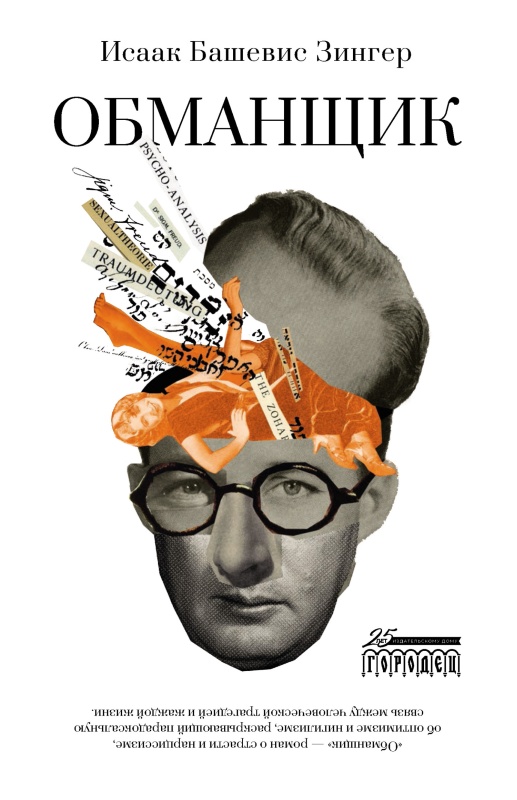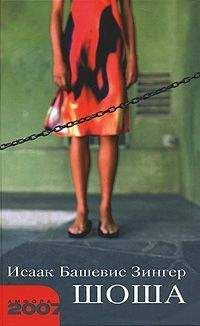сказано в Псалтири: “Бог стал в сонме богов”. За несправедливости корят других богов. Весь монотеизм – изобретение евреев. А правы были древние греки».
Минскер повернул домой. История с Минной была нежданной трагедией, первым для него унижением за все время, что он путался с женщинами.
Зигмунт Крымский расхаживал взад-вперед по комнате. Он приготовил Моррису Калишеру полдюжины картин, все на еврейские темы: Тиша б’Ав (9 ава) [20], церемония бросания грехов в воду на Рош-ха-Шана, размахивание над головой священной птицей в День искупления [21], еврейский воин, похороны. В чемодане лежали несколько антикварных вещиц, которые Крымский очень хотел показать Моррису: коробочка XV века для специй, Книга Есфирь, записанная в Йемене, Книга Писаний с оригинальными заметками на полях самого Виленского гаона [22]. Крымский выманил эти полотна у художников якобы для галереи, которую намеревался открыть в Париже. Антиквариат же был просто подделкой. Но кого интересует мораль во время такой мировой заварухи?
Крымский нуждался в деньгах, и срочно. Здесь, в отеле «Марсель», он уже задолжал за две недели. Вдобавок ему необходимо помочь Пепи, занимавшей отдельный номер на том же этаже. Переезд из Касабланки в Нью-Йорк в военное время, да еще и с картинами, был сопряжен с огромными трудностями, и Крымский сам с трудом верил, что преодолел все это. Он поклялся стать в Америке миллионером и разработал подробный план, где не последнюю роль играла Пепи. Но начинать всегда нелегко, тем более в новой стране, где говорят на незнакомом языке. Он годы потратил, чтобы прилично овладеть французским. Теперь же придется учить английский. Старый учебник английского уже лежал у него на столе. Крымский купил его в Париже, но издан он был в Варшаве под названием «Do you speak English?». Крымский понимал, что учебник устарел, но лучше хоть такой, чем вообще никакого.
Пепи уже посещала курсы для взрослых, не столько затем, чтобы выучить английский, сколько чтобы познакомиться с людьми.
Крымский брал из коробки печенье, грыз, а одновременно курил сигарету и твердил английские слова: «table», «window», «horse». Эти слова он подчеркнул красным карандашом. Время от времени останавливался перед зеркалом и критически смотрел на свое отражение: черные как смоль волосы, низкий лоб, сросшиеся брови над угольно-черными глазами, чуть раскосыми, полными еврейской проницательности и мирского легкомыслия. На свое лицо он глядел с удовольствием. Такой рот женщинам хотелось поцеловать, а ямочка на подбородке придавала ему лихой шарм. Если б тело соответствовало лицу, Крымский в свои сорок восемь слыл бы Аполлоном. Только вот ноги у него были слишком короткие, «еврейские ноги», непропорциональные торсу. Бедра тоже несколько широковаты. Нигде он не осознавал свои физические изъяны так отчетливо, как здесь, в Америке. Ни в Польше, ни даже во Франции у него и мысли не возникало, что он не вышел ростом. Но Америка населена великанами вроде упомянутых в Пятикнижии. Двенадцатилетние девочки и те были выше его. Он уже слыхал, как кто-то назвал его коротышкой. Вдобавок одежда, которую он привез с собой и которая в Париже и Касабланке казалась весьма элегантной, здесь выглядела провинциальной, претенциозной и смешной. Необходимо обзавестись новым гардеробом. Кроме того, надо заменить два золотых зуба, ведь американцы – так ему сказали – считали золотые зубы забавным курьезом. И потом, надо съехать из отеля, где он должен платить восемь долларов в день за себя и за Пепи – в пересчете на франки огромная сумма.
Крымский твердо верил, что добьется в Америке успеха. Здесь прямо-таки кишмя кишат богатые матроны средних лет, изголодавшиеся по искусству, любви и средствам, возвращающим молодость. Пепи уже подружилась с пожилой модисткой, калекой.
Зигмунт Крымский рассчитывал непременно продать Моррису Калишеру одну-две картины. Тысяча долларов – сумма, по здешним меркам, небольшая. Но ему для начала хватит. Он снимет квартиру, купит новый гардероб, заменит зубы. Остальное устроится само собой.
Ладно, однако ж Моррис Калишер опаздывает. Почти одиннадцать, а его все нет. Зигмунт Крымский ругал себя за ошибку. Напрасно он встретился с Минной. Вчера по телефону он сказал Моррису, что только что узнал его номер, а ведь как знать, вдруг Минна сдуру выболтала секрет? Зазвонил телефон, и Крымский снял трубку.
Звонила Пепи.
– Ну что, он пришел? – спросила она.
– Моррис Калишер? Пока нет.
– Ты дал ему правильный адрес?
– А ты как думаешь?
– Я тебе говорила, избалуются они в Америке. Тут доллары нужны, а не искусство.
– Мне тоже нужны доллары. Если он не придет, не знаю, что и делать. Портье уже требовал оплатить этот… как его… the bill [23].
– Ничего, подождут еще денек.
– Мы в Нью-Йорке, а не в Париже.
– Не падай духом, дорогой. Скоро все наладится.
– Когда? Ладно, не занимай телефон, возможно, он пытается со мной связаться.
Крымский повесил трубку и завел разговор с самим собой: «Вонючки, гады, негодяи! Вот они кто! Им картины нужны как дырка в голове. Им подавай меняльный бизнес, черный рынок, спекуляции. Синагоги, вот что они здесь строят. Нет даже ни одного кафе, где можно с кем-нибудь встретиться. Город вроде Нью-Йорка – и без кафе! Кто в Париже поверит? Кошерная еда да жирные жены – больше им ничего не надо. Но я вытяну из них вонючие доллары! Стонать будут, а заплатят. Не знают они пока Зигмунта Крымского, он им покажет, этим шутам гороховым!»
Крымский хватил кулаком по комоду. Сигарета выпала у него изо рта, и он снова раскурил ее. Дым валил из широких ноздрей, как из паровозной трубы. Один глаз дергался, второй смеялся, понимающе, хитро, с вызовом. Крымский обманывал всех – друзей, родню, любовниц, партнеров. Но в конечном счете обманулся сам. Все его жертвы умудрились выжить, а он остался посреди реки, в лодке без весел. Взять хотя бы Минну. Неужто Моррис Калишер не мог найти ничего лучше этой графоманки, этой облезлой ивовой ветки, этой затасканной старой шлюхи?
Она прямо-таки помолодела тут, в Америке, покрасила волосы, подавала себя как писательницу, хотя не умела составить фразу, не сделав семи ошибок! Крымский предлагал ей прийти к нему в отель – навестить могилу предков, как он в шутку выразился, – но она отказалась, словно этакий образец непорочности. Дескать, намерена хранить верность своему Моррису.
«Ой, да кто ж поверит? – с жаром подумал Крымский. – С этаких лицемеров надо заживо сдирать кожу, а мясо бросать собакам».
Снова зазвонил телефон, и Крымский метнулся к нему длинным прыжком, точно грациозный хищник к добыче.
Снял трубку:
– Алло?
Ответили не