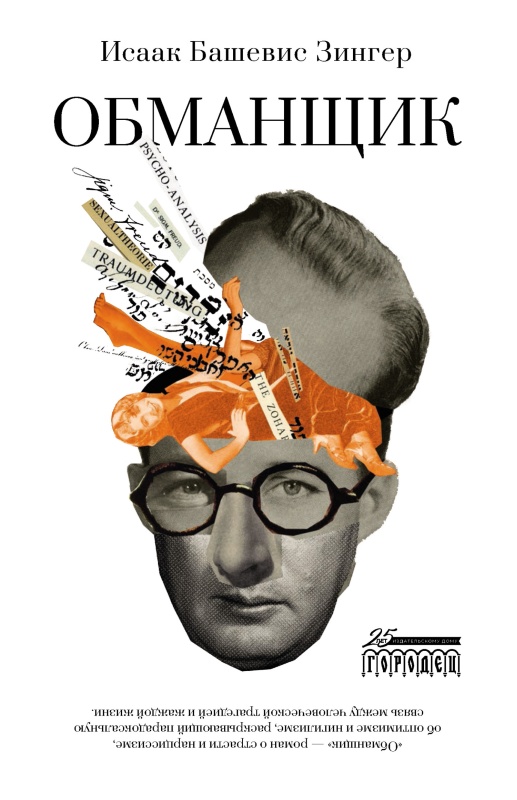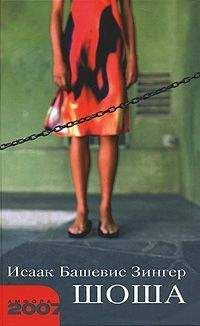и тех, кто стремился им подражать. Суть всякой цивилизации – возвеличивать и прославлять прелюбодейство. Мир никогда не переставал поклоняться идолам. Едва человек на шаг отходил от Дома молитвы, он становился идолопоклонником.
«Как же я до сих пор этого не понимал? – удивлялся Моррис. – Да нет, понимал. Даже неоднократно обсуждал с Герцем. Он говорил то же самое, только с бо́льшим пылом и большей ученостью, чем я. Но в том-то и трагедия – знаешь, что поедаешь гадость, но продолжаешь есть, потому что привык и потому что ее, поди, сдобрили пряностями…»
Моррис Калишер высунулся из окна и сплюнул.
– Я не заслуживаю жизни! – пробормотал он. – Я мерзкий грешник, хуже не бывает.
Как только Моррис ушел, Минскер попробовал связаться с Минной, но ее номер был занят. Он звонил снова и снова, однако минуло сорок пять минут, а телефон оставался по-прежнему занят.
Герц принялся кусать губы. «Так долго она может говорить только с бывшим мужем», – сказал он себе. Самому не верилось, но он вправду ревновал. Много лет он не испытывал этого чувства. Всегда следил, чтобы жертвами ревности становились другие, только вот сейчас, помимо ревности, его обуревало отвращение.
«Вот, значит, какая она, продажная тварь! – твердил он себе. – Что ж, это конец. Я брошу ее сию же минуту. – Он хотел сказать ей, что между ними все кончено, но, набрав номер, всякий раз слышал короткие гудки, сигнал, что линия все еще занята. – Надеюсь, этот глупец Моррис с ней не останется. Пусть она идет обратно к Крымскому, грязная шлюха!»
Герц сел за столик, попробовал читать газету, но там сообщалось лишь о победах нацистов. Да он и не мог сосредоточиться ни на одной строчке. Внезапно ему подумалось, что, если ее припрут к стенке, она наверняка выложит Моррису и про свои шашни с ним, с Герцем. В таком случае ему останется только одно – покончить с собой. «Н-да, я вроде тех гангстеров, которых ищет полиция и которые воюют между собой. Так или иначе, все кончается плохо».
Герц взял чашку кофе, но она уже остыла. Из двадцатидолларовой купюры, оставленной Моррисом, он, как давным-давно в хедере [18], сделал лодочку. «Нет, сейчас лучше не поднимать шум, – решил Минскер. – Надо подождать и посмотреть, что будет».
Он снова пошел позвонить. На сей раз номер был свободен, но никто не отвечал. Должно быть, за это короткое время Минна успела уйти из дома.
«Все, больше не могу, – сказал себе Герц. – Эта Америка доконает меня и физически, и духовно».
Годами Герц Минскер жил распутной жизнью, но распутных женщин презирал. Всегда желал чистой любви.
«Как это возможно? Как возможно? – спрашивал он себя. – В конце концов, она ведет себя так, будто с ума сходит от любви ко мне. Устраивает мне скандалы из-за Брони. Наговорила о Крымском кучу гадостей… Наверно, она самая гнусная из женщин, каких я встречал!» – сказал Герц чашке кофе.
Он терзался отвращением и желанием. Думал об извращенцах, которые наслаждаются изменами любовниц, своим унижением, побоями…
«Я должен уехать отсюда… причем незамедлительно! – решил он. – Все брошу и уеду. Спрячусь где-нибудь на ферме, стану работать за кусок хлеба. Больше никакой любви! Никакого секса! С этим покончено!»
Он опять позвонил Минне, прекрасно понимая, что никто не ответит, а потом ушел из кафетерия. Теперь Моррис казался ему, как никогда, близким – фактически они разделили эту трагедию.
Герц не знал, куда податься. Пойти домой? Прогуляться по Центральному парку? Может, посмотреть за четвертак кино? Днем сеансы дешевле. Он остановился перед кинотеатром, взглянул на афишу. Мужчина с растрепанными волосами и вытаращенными глазами, в одной руке пистолет, в другой – потерявшая сознание девушка. Оба залиты уже запекшейся кровью. «Ну да, самая подходящая картина для таких, как я. Голливуд и впрямь отражение нынешнего поколения. Карикатура стала реальностью», – хихикнул внутренний голос.
Герц Минскер уже было полез в задний карман за четвертаком, но почему-то зашагал дальше. Может, пойти в библиотеку на Сорок Второй улице? Но что ему там делать? У них нет ни одной интересной для него книги. В других странах мужчина мог без проблем подцепить на улице проститутку, просто чтобы немного расслабиться. Но американцы и это запретили. У них на все одно средство – виски.
«Надо кого-нибудь найти! Завести новую подружку! – подумал Минскер. – Иначе эта Минна сделает из меня шута. Вот она, женская эмансипация».
Минскер вообразил, будто он царь и приказал отрубить Минне голову. Генрих VIII был настоящий мужчина, а теперешние англосаксы – духовные кастраты. Гомики они, и больше никто. Потому Гитлер их и уничтожит.
Женщины начали управлять страной, и это стало началом конца. В Риме женщина тоже стала властительницей, перед тем как варвары разрушили город. Америка – цивилизация абсурдностей, разве нет? Несчетных абсурдностей, придуманных, чтобы благоговеть перед женщиной и довести мужчину до духовной импотенции. Им требовалось масло, а не пушки. Они сами были маслом. А что до современных евреев, те были всем, что им приписывали антисемиты, и даже хуже.
Минскер устыдился собственных мыслей, но не мог их сдержать. Вспомнил нацистский слоган: «Kinder, Küche, Kirche!» [19] Разве эти убийцы не правы? Если не загнать женщин назад, на кухню, они удавят мировой дух нейлоновыми чулками, утопят Бога в духа́х, осквернят небеса косметикой.
Размышляя об этом, Минскер услышал над головой шум. Посмотрел вверх и увидел аэроплан, выписывавший в небе название содовой. Да, они сумеют повесить рекламу на Престол Славы. Прилепят плакат на спину Богу.
Минскер не сознавал, куда несут его ноги. Огляделся и с удивлением обнаружил, что стоит возле дома Морриса Калишера.
«Я уже так далеко зашел? – спросил он себя. – Скверно… скверно».
Внезапно в голове мелькнуло, что Минна, возможно, вообще никуда не уходила, просто была в постели с Крымским. Когда приходил Минскер, она часто снимала трубку с телефонного аппарата. Большими шагами Минскер пошел прочь от дома. Минна ведь вполне может заметить его в окно. Нахлынула жалость к себе. Он словно опять вернулся к нелепым чудачествам и неудачам юности.
«Самое милое дело для меня – кастрация. Только тогда я найду покой. Покаяться? Кому покаяться? Бог, конечно, есть, но Он совершенно не таков, каким Его изображают. Он сродни думающей машине, чудовище наподобие Спинозы, а возможно, и монада. Нет, не то. Возможно, Он – вековечное животное. Нет, и не оно. Ясно только, что Он не требует от людей, чтобы они изучали Гемару или надевали филактерии. Может статься, богов много. Как