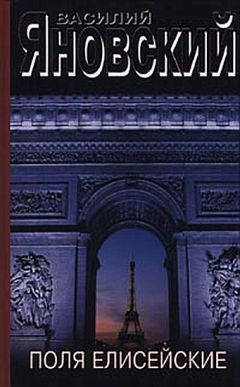Вот немцы наконец во Франции; многие друзья Иванова бедствуют, а он старается исполь-зовать новых знакомых по старому рецепту. Когда они разбиты (это ли не скверная лошадка) и бегут из Парижа, Иванов собирается немедленно записаться в Союз Советских Патриотов. Его отговаривает писательница Б.
А там он опять ведущий поэт, почти идеолог - на этот раз дипийцев! Иванов шармер, несмотря на свое внешнее и внутреннее безобразие, его обаяние привлекало людей...
- Вот вы написали в рассказе про человека, у которого синее лицо утопленника, - говорил он конфиденциально, вполголоса. - Сумели же вы такое увидеть.
В другой раз:
- Вы великодержавный писатель, не то что эта мразь.
По каким-то соображениям он тогда считал нужным мне польстить. А такого рода похвала пленяла и помогала многое прощать. Кстати, Иванов уверял, что лесть всегда действует положи-тельно, даже если ей не поверят! (Польсти, польсти! - по Достоевскому.)
В связи со скандалом Иванов-Буров я был вовлечен в грязную склоку. Я тогда встречал Бурова и знал, где он по утрам гуляет в одиночестве. Когда последний в ответ на требования денег разослал всем циркулярное письмо касательно коммерческих операций Г. Иванова, Георгий Вла-димирович решил встретиться с ним и наградить его оплеухой. Но я отказался выдать доверенный мне секрет, то есть место его ежедневных прогулок. Это очень удивило наших честных молодых писателей, только Адамович заявил, что я совершенно прав.
Передаю эти подробности, чтобы показать, как легко, в сущности, было сохранить хорошие отношения с Ивановым, не идя на особые компромиссы с совестью. Но "недуг" Поплавского "перехамил или перекланялся"... оставался очень распространенным.
Иванов не играл ни в какие игры, азартные или коммерческие; его сексуальная жизнь дово-льно сумрачная картина.
В "Круге", явно враждебном морально-политическому облику Иванова, поэт все-таки пользовался и уважением, и вниманием. Показательно, что Ходасевича мы не пригласили, хотя печатали его в нашем альманахе.
Перелистывая Фета, я всегда вспоминаю Иванова; по сей день не могу понять, почему последний так пришелся по вкусу изголодавшейся новой эмиграции... Разумеется, это настоящий поэт, но были же у нас Ходасевич, Цветаева - не меньшего размаха! Думаю, что не в одной поэзии тут дело; читая Иванова, бессознательно чувствуешь, что все трын-трава: можно в одну контрразведку заглянуть, затем в другую, противоположную, позволительно ошельмовать кулака отца, у еврея денег перехватить, затем у немецкого полковника, в Национально-Трудовой Союз записаться, потом к советским патриотам примкнуть. Все извинительно...
Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер!
Только в мире и есть, что лучистый
Детски-задумчивый взор!
Это строки Фета, а не Иванова. И еще:
Люди спят, - мой друг, пойдем в душистый сад:
Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят,
Да и те не видят нас среди ветвей
И не слышат, - слышит только соловей,
Да и тот не слышит: песнь его громка,
Разве слышат только сердце и рука...
Проза Иванова - трехмерная, на редкость безблагодатная ("Петербургские зимы" в стороне, я разумею "романы" Иванова). "Распад атома" любопытен, пожалуй, с точки зрения автобиогра-фической.
Тяготел он всегда скорее к "реакционному" сектору в своих взглядах, хотя убеждений, принципов у Иванова почти не было. Бессознательно любил и уважал только сильную власть и великую державу; требовал порядка и, главное, иерархии, при условии, что он, Иванов, будет причислен к элите.
После благополучного завершения войны я получил письмо от Иванова с юга Франции. Тогда печатался в "Новом журнале" "Американский опыт", и Г. Иванов похвалил его: "вот такие имен-но писатели нам нужны..." Затем что-то намекал насчет возможного (при его связях) устройства французского перевода. И в заключение просил послать отрез серого сукна на костюм. Это все типичный Иванов; надо только помнить, что если бы я ему отправил подарок, он бы мне обязате-льно, немедленно отплатил гадостью.
- О костюмчике не может быть и речи! - отвечал я ему.
Это был любимый анекдот одессита Ставрова... Гражданин высовывается из окна горящего здания и зовет на помощь. Ему кричат снизу, прыгай! Но он отвечает: "О том, чтобы прыгать, не может быть и речи". На Монпарнасе очень ценили эту шутку.
Вот я стараюсь, по-видимому, честно рассказать о человеке, которого знал, и чувствую, как сущность этой души, секрет ее ускользает. Неправда, что только Пушкин (Ленский) унес в могилу тайну своей личности. Мы все, и особенно такие искаженные образы, как Ивановы, храним и лелеем скрытую рану (язву), о которой можно догадаться только благодаря усердию, с которым мы толкаем посторонних, друзей и врагов, на ложный след.
Я назвал Иванова совершенно аморальным; но это неверно по отношению к его труду. Для стихов своих он, вероятно, многим жертвовал и, пожалуй, признавал некоторые, хотя бы им самим установленные, правила и законы. Возможно, что всю остальную жизнь он почитал вздором, скрашиваемым только комфортом, и поэтому ничего не стоило врать, шантажировать, предавать. Единственно, стихи свои он воспринимал как настоящую реальность и тут не жалел себя.
К концу 30-х годов, когда тень Гитлера падала уже за Рейн на французский пейзаж, наши нервы понемногу начали сдавать. В воздухе запахло кровью, быть может, кровью близких, и шуточки Иванова становились опасными; кроме того, полиция тоже вдруг, казалось, проснулась. Тогда он повел себя осторожнее; то ли дело во времена "народного фронта" - сколько язвитель-ных, пророческих анекдотов порождал Иванов.
В "Круге" последний год Иванов сидел молча, с каменным лицом. Только изредка подталки-вал к несдержанным рейдам нашего единственного (платонического) гитлеровца - Лазаря Кель-берина... Сей последний вообразил себя, временно, помесью Паскаля с Розановым.
Вот к выкрикам Кельберина обычно тихохонько примазывался Иванов, покровительствавший ему.
Раз, придя на заседание правления "Круга", я узнал, что будет обсуждаться кандидатура нового члена - Злобина. Каким образом Иванов убедил Фондаминского и кто еще участвовал в этом заговоре, не помню; но возражать пришлось только мне, даже Федотов только брезгливо отмалчивался.
- Помилуйте, - возмущался я. - Мы не пригласили Мережковских, у которых могли бы все-таки чему-то научиться. А тут вы предлагаете кандидата со всеми пороками Мережковских, но без их заслуг...
- Вы боитесь Злобина? - победоносно спрашивал Фондаминский, зная что я отвечу. - Ну вот. Значит, пускай себе сидит и слушает. Может, даже мы на него повлияем. А Мережковские сильные противники. Кому охота теперь с ними спорить о самых элементарных началах и терять время. Только Кельберин еще соблазнится их речами да еще кое-кто. Нет, Мережковских я не хочу здесь. А Злобин не опасен.
Его настойчивость, а главное, аккуратность, с какой он начинал опять спор именно с того места, на котором давеча прервал, действовали на многих из нас парализующе, и мы уступили.
Так, в 1939 г. появился на этих собраниях заложник Мережковских Злобин. Человек, веро-ятно, в большой степени ответственный за все безобразия последнего периода жизни Мережков-ских. Держал он себя тихо, подчеркнуто гостем, сидел на диване рядом с Ивановым, составляя некую темную фракцию; однако изредка задавал "каверзные" вопросы, например, после доклада Керенского:
- Не думаете ли вы, Александр Федорович, что Гитлер помимо эгоистических видов на Украину искренне ненавидит коммунизм и хочет его в корне уничтожить?
На что Керенский, кокетничая беспристрастием, ответил:
- Я допускаю такую возможность.
Керенский был у нас заложником исторического чуда. Несколько месяцев он возглавлял и защищал воистину демократическую Россию, тысячелетиями превшую в тисках великодержавных шалунов. Этого уже не удастся зачеркнуть!
"Верховный главнокомандующий, - насмешливо, но и с петербургским трепетом повторял Иванов. - Вы заметили, как он меня держал за пуговицу и не отпускал? Подумайте, Верховный великой державы, во время войны".
Когда, случалось, цитировали знаменитый белый стих Ходасевича: "Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа..." - Иванов неизменно объяснял:
"Это он Керенского имел в виду, других вождей народа он не знал".
Как-то раз случайная дама из правого сектора сообщила за чайным столом Мережковских, что встретила Керенского в русской лавчонке - он выбирал груши.
"Подумайте, Керенский! И еще смеет покупать груши!" - вопила она, уверенная в своей правоте.
В этот день обсуждалась тема очередного вечера "Зеленой лампы". Мережковский с обыч-ным блеском сформулировал ее так: "Скверный анекдот с народом Богоносцем..."
К нашему удивлению правая дама, запрещавшая Керенскому есть груши, возмутилась: "Мы придем и забросаем вас тухлыми овощами, - заявила она. - А может быть, и стрелять начнем".