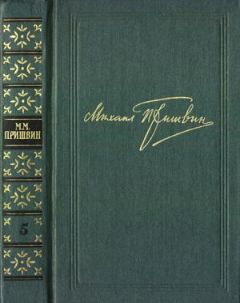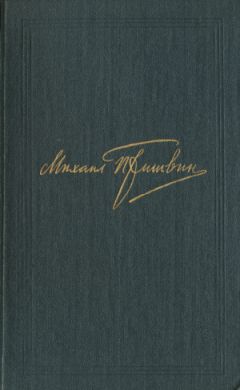Мало-помалу Зиночка чаще и чаще стала скрываться куда-то вниз, в подвальную кладовую к мышиной королеве и ясных глаз своей прекрасной мамы больше не встречала своими прежними большими глазами, прятала их, косилась, выглядывала из щелок, постепенно делалась замкнутой, угрюмой и грубой.
Однажды, когда Зиночка исчезла, прекрасная мама тихонечко по ступенькам стала спускаться туда, в подвальную жизнь мышиной королевы, невольно с улыбкой повторяла про себя: «Шаша, тише, шиши-мыши!» В самом низу она остановилась. Светилась одна только замочная скважина.
– Тише, мыши!
И прекрасная мама, – чего только не приходилось ей выносить за детей! – она не постеснялась в своей небесного цвета юбке и крепдешиновой золотистой кофточке опуститься на колени на грязный каменный пол перед замочной скважиной мышиной королевы. Там в сводчатом подвале за столиком у окна сидела мышиная королева, а Зиночка против нее чайной ложечкой кушала какую-то золотистого цвета прелесть.
– Кушай, Шаша, кушай! – повторяла мышиная королева.
Прекрасная мама скоро догадалась: Зина ела ростовское морковное повидло, за которое в области была такая борьба и так она берегла его для детских праздников. Мыши нашли к нему лазейку, и Зиночка кушала сворованное мышами добро.
– Кушай, Шаша, – повторяла королева, подкладывая еще и еще из банки на блюдечко.
А после того появился кулечек с изюмом, с черносливом, с пряниками на меду – тоже все знакомое, тоже все помнится: какая борьба была и какая победа, и сколько потом, пока из области дошло до района и из района в детдом, разные мыши из детских прелестей растащили себе в норки.
Прекрасная мама встала с колен, открыла дверь и вошла, словно свет ворвался в темный бор.
– Ты ли это, Зиночка? – сказала она. – Но только не бойся, ничего не пугайся, как мыши. Ты больше не будешь ходить сюда?
– Не буду, – прошептала Зиночка.
И по-прежнему открыла большие глаза.
– Иди за мной.
И Зиночка пошла за новой мамой по лесенке.
– Шаша, шаша, – шепелявила мышиная королева.
Зиночка не оглядывалась. Зиночка ушла от нее, страшно думать! – может быть, навсегда.
Так бывает в пасмурный день, когда в травах смешивается жизнь светолюбивых и темных существ, – вдруг ворвется солнце, и все разделится: светолюбивые остаются в лучах, а темные ползут в тень…
Из Берендеева на Ботик стала ходить повариха, хорошая, ласковая женщина, Аграфена Ивановна: никогда к детям она не придет с пустыми руками и одевается всегда чистенько, дети это очень ценят. Женщина она бездетная, за мужем своим, бывало, ходила как за ребенком, но муж пропал без вести на фронте. Поплакала, люди утешили: не одна ведь она такая осталась на свете, а на людях и смерть красна.
Очень полюбилась этой бездетной вдове в детдоме на Ботике одна девочка, Валя – маленькая, тонкая, в струнку, личико всегда удивленное, будто молоденькая козочка. С этой девочкой стала Аграфена Ивановна отдельно прогуливаться, сказки ей сказывала, сама утешалась ею, конечно, как дочкой, и мало-помалу стала подумывать, не взять ли и вправду ее себе навсегда в дочки. На счастье Аграфены Ивановны, маленькая Валя после болезни вовсе забыла свое прошлое в Ленинграде: и где там жила, и какая там у нее была мама, и кто папа. Все воспитательницы в один голос уверяли, что не было случая, когда бы Валя хоть один раз вспомнила что-либо из своего прошлого.
– Вы только посмотрите, – говорили они, – на ее личико: не то она чему-то удивляется, не то вслушивается, не то вспоминает. Она уверена, что вы ее настоящая мама. Берите ее и будьте счастливы.
– То-то вот и боюсь, – отвечала Аграфена Ивановна, – что она удивленная и как будто силится что-то вспомнить. Возьму я ее, а она вдруг вспомнит, – что ж тогда?
Крепко подумав, все взвесив, совсем было решилась вдова взять себе в утешение Валю, но при оформлении вдруг явилось препятствие. Хотя в детдоме все были уверены, что отец Вали погиб – об этом говорили и прибывшие с фронта бойцы: погиб у них на глазах, – но справки о смерти не было, значит, по закону нельзя было отдать на сторону девочку.
– Возьмите, – говорили ей, – условно, приедет отец – возвратите, а может быть, и замуж за него выйдете.
– Будет вам шутить! – отвечала Аграфена Ивановна, – замуж я не выйду, а дочку так брать страшно, все будет думаться: придет час и отберут. Нет уж, что уж тут, брать так брать, а так уж – что уж тут!
После этих слов повариха целый месяц крепилась, не заглядывала на Ботик. Но, конечно, дома, в своем желтом домике в Берендееве, тосковала по дочке, плакала, а девочка тоже не могла утешиться ничем: мама ее бросила! А когда повариха не выдержала и опять пришла с большими гостинцами, – вот была встреча! И опять все уговаривали взять условно, и опять Аграфена Ивановна упорно повторяла свое:
– Брать так брать, а то уж, что уж так-то брать!
Так длилось месяца два. В августе пришла бумага о смерти отца Вали, и Аграфена Ивановна увезла свою дочку в Берендеево.
Кого прельстит рыженький блеклый домик в три окошка, обращенных в туманы Берендеева болота! Никому со стороны не мило, а себе-то как дорого. Все ведь тут сделано руками своих близких людей; тут они рождались, жили, помирали и обо всем память оставили. Собачку отнимут от матери, принесут в чужой дом, и то, бывает, пузатый кутенок озирается вокруг мутно-голубыми глазами, хочет что-то узнать, поскулит. А Вале, девочке-сироте, было в рыжем домике все на радость. Валя ко всему тянется, весело ей, как будто и в самом деле пришла в свой родной домик, к настоящей маме. Очень обрадовалась Аграфена Ивановна и, чтобы девочке свой домик совсем как рай показать, завела патефон.
Сейчас и на Ботике есть патефон, а в то время, когда Валю брали, дети там патефона вовсе не слышали, и Валя не могла помнить патефон вовсе. Но патефон заиграл, и девочка широко открыла глаза.
«Соловей мой, соловей, – пел патефон, – голосистый соловей…»
Козочка удивилась, прислушалась, стала кругом озираться, что-то узнавать, вспоминать…
– А где же клеточка? – вдруг спросила она.
– Какая клеточка?
– С маленькой птичкой. Вот она тут висела.
Не успела ответить о птичке, а Валя опять:
– Вот тут столик был, и на нем куколки мои…
– Погоди, – вспомнила Аграфена Ивановна, – сейчас я их достану, я их спрятала.
Достала свою хорошую куклу из сундука.
– Это не та, это не моя!!
И вдруг у маленькой Козочки что-то сверкнуло в глазах: в этот миг, верно, девочка и вспомнила все свое ленинградское.
– Мама, – закричала она, – это не ты!
И залилась… А патефон все пел:
Когда пластинка кончилась и соловей перестал петь, вдруг и Аграфена Ивановна свое горе вспомнила, закричала, заголосила, с размаху ударилась головой об стену и упала к столу. Она то поднимет со стола голову, то опять уронит, и стонет, и всхлипывает. Эта беда пересилила Валино горе, девочка обнимает ее, теребит и повторяет:
– Мамочка, милая, перестань! Я все вспомнила, я тебя тоже люблю, ты же теперь моя настоящая мама.
И две женщины, большая и маленькая, обнимаясь, понимали друг друга, как равные.
Когда мальчика взяли в детдом, он сам подробно, в полном сознании, все рассказал о гибели своей матери, и этот рассказ подробно записан в книге детдома. Через несколько дней мальчик заболел менингитом, и за ним днем и ночью ухаживала Анна Михайловна. Эта обыкновенная женщина, с обыкновенными слабостями, в те дни действительно была прекрасна и боролась за жизнь мальчика целыми ночами, не закрывая глаз. Когда менингит был побежден, началась новая борьба с дифтерией, и когда прошел дифтерит, начались тяжелые последствия голодной болезни.
Сам доктор называл выздоровление Вовочки биологическим чудом и после «чуда» – делом рук Анны Михайловны. Трудно представить нам, что переживал мальчик во время борьбы его за жизнь. Но можно догадываться, что в минуты просветления его сознания образ новой мамы замещал прежний, и мало-помалу Вовочка, выздоравливая, выходил из старой жизни в новую с полным забвением всего, что было с ним в страшные дни блокады.
Можно сказать, прежний Вовочка умер, и от него, как надгробный памятник, осталась в книгах детдома только запись рассказа о гибели его старой мамы. Новый Вовочка вышел на свет силой материнской любви своей новой мамы, сохраняющей от него ревниво тайну его мучительного прошлого. И тут нет ничего особенного: каждая мать во всей радости своей, обращенной к младенцу, в сердце своем таит тревогу и скорбь…
Стороной, от людей, узнал наконец отец Вовочки о гибели жены своей в Ленинграде и о спасении сына, и что за мальчиком самоотверженно ухаживает новая женщина, и что ребенок вовсе забыл свое прошлое.