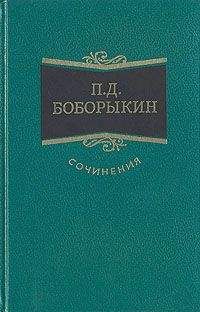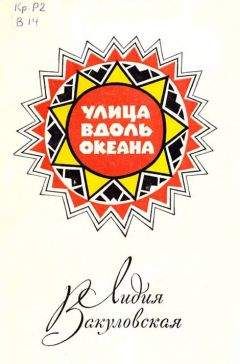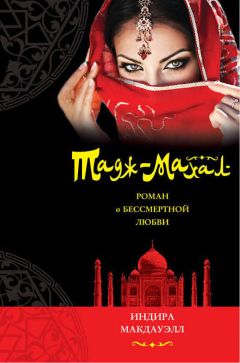— Отоприте, — приказала Берте Марья Орестовна, указывая ей на первый шкап по левую руку.
В этом шкапу висели зимние платья, укутанные в простыни, тяжелые, расшитые шелками, серебром, золотом, с кружевными отделками. Некоторые не надевались уже более года. Половину этого надо будет оставить. В следующем шкапе помещались мантильи, накидки, разные confections de fantaisie.[41] Многое уже вышло из моды. Но у Марьи Орестовны нет привычки дарить. А продавать тоже не может. Из этого шкапа она выберет две-три вещи. Осенние простые туалеты она возьмет на дорогу и для ненастных дней в Ницце или где проживет зиму; у Ворта закажет четыре платья — не больше.
"Закажет!.. Будет ли ей по средствам? Нынче каждое простое платье стоит у него тысячу франков и больше".
Так обревизован был весь гардероб. Одно платье и кофточку она подарила камеристке. Берта густо покраснела и сделала книксен, подогнув правую ногу под левую.
Осмотр гардеробной утомил Марью Орестовну. Она вернулась в кабинет и взялась за газеты. Прежде всего за одну мелкую московскую, где за два дня «отделывали» ее мужа и его дядю. И сегодня, вероятно, что-нибудь новое. С той статейки и начался в ней перелом. Ее уязвило не оскорбление мужу, а то, что она — жена его. В тот день она начитала ему как следует, дала приказ, как поступить, к кому ехать, что говорить. Ее это раздражило, вызвало желчь, помогло обдумать целый план действий. А вчера вся эта пошлость припомнилась ей и, как последняя капля, заставила разлиться чашу ее душевного недуга.
Стоило почти десять лет работать над таким человеком, как ее супруг! Добьется она того, что ему будут писать на пакетах: "Его превосходительству"… А потом? Она-то сама, ее-то личная жизнь при чем тут? Терпеть, чтобы тебя в грошовой газете всякий пасквилянт, получающий по три копейки со строки, срамил из-за ничтожества твоего Евлампия Григорьевича, чтобы над твоим «ученичком» издевались, как над идиотом, и тебя показывали в "натуральном виде" — так и стояло в фельетоне, — со всеми твоими тайными желаниями, замыслами, внутренней работой, заботами о своей «интеллигенции», уме, связях, артистических, ученых и литературных знакомствах?
"Дворянящаяся мещанка" — вот твоя кличка!..
Московская газетка нервно встряхивалась в руках Марьи Орестовны. Она читала с лорнетом, но pince-nez не носила. Вот фельетон — "обзор журналов". В отделе городских вестей и заметок она пробежала одну, две, три красных строки. Что это такое?.. Опять она!.. И уже без супруга, а в единственном числе, какая гадость!.. Нелепая, пошлая выдумка!.. Но ее все узнают… Даже вот что!.. Грязный намек… Этого еще недоставало!..
Лицо Нетовой разом побледнело. Во рту у ней тотчас же явился горький вкус. Она бросила газету на стол и начала ходить по кабинету.
Как ни бодрись, как ни ставь себя на пьедестал, но ведь нельзя же выносить таких мерзостей! А разве за нее он способен отплатить? Да он первый струсит. Дела не начнет с редакцией. А если бы начал, так еще хуже осрамится!.. Стреляться, что ли, станет? Ха, ха! Евлампий-то Григорьевич? Да она ничего такого и не хочет: ни истории, ни суда, ни дуэли. Вон отсюда, чтобы ничего не напоминало ей об этом «сидельце» с мелкой душонкой, нищенской, тщеславной, бессильной даже на зло!
Выдумать грязную сплетню на нее, как на жену и женщину! На нее! Стоило десять лет быть верною Евлампию Григорьевичу! Да, верной, когда она могла пользоваться всем… и здесь, и в Петербурге, и за границей. Ей вот тридцать второй год пошел. Сколько блестящих мужчин склоняли ее на любовь. Она всегда умела нравиться, да и теперь умеет. Кто умнее ее здесь, в Москве? Знает она этих всех дам старого дворянского общества. Где же им до нее? Чему они учились, что понимают?..
И тут ей представились фигура и лицо мужа — с приторной улыбочкой, глухо-хмурыми бровями и бородкой молодца из Ножовой линии, с его "изволите видеть" и "сделайте ваше одолжение", с его влюбленным лакейством. Он влюблен! Он питает затаенную страсть!.. Он смеет!.. Проявлять эту страсть она ему никогда не позволяла. Но ведь он все-таки муж… И было время в первые годы, когда они еще не жили в разных концах дома!..
Желчь еще не уходилась. В голове целый муравейник злобных мыслей так и кишел.
В дверях показался официант с небольшим серебряным подносом. Он намеренно кашлянул.
— Что? — почти с испугом крикнула Марья Орестовна и тотчас же оправилась.
— Депеша-с. Прикажете расписаться?
— Я говорила, чтобы швейцар расписывался… даже когда я и Евлампий Григорьевич дома.
Лакей нырнул в портьеру, вынув из пакета листок квитанции.
"От Палтусова", — подумала Марья Орестовна и подошла читать депешу к окну.
Но депеша была не городская, а из Петербурга…
Вот это новость! Она рассчитывала на брата, служащего за границей, думала вызвать его в Париж, — а он в Петербурге, экспромтом по делам службы, и будет через три дня в Москву.
Всё неудачи!.. А может, и лучше. Свой человек. Теперь это придется кстати. Легче будет. Он мог бы сослужить ей хорошую службу, но не очень-то она надеется на его умственные способности… Брат Коля. Он ее же выученик. Зато он распустит хвост, как павлин… может оказаться полезным своим французским языком, тоном, подавляющим высокоприличием и сладкой деликатностью. Это так…
Уже третий час, а она еще не в туалете… В капоте нельзя принимать, хоть сегодня у ней вокруг талии опухоль; трудно будет затянуть корсет. Надо надеть простую ceinture[42] и платье полегче.
Она вернулась в будуар и хотела позвонить. Но рука ее, протянутая к пуговке электрического звонка, опустилась. Лицо все перекосило, прямые морщины на переносице так и врезались между бровями, глаза гневно и презрительно пустили два луча.
Из-за портьеры выглядывала наклоненная голова Евлампия Григорьевича и озиралась.
— Можно войти?
Что за вольность! Никогда он не смел входить до обеда в ее будуар. Ну да все равно. Лучше теперь, чем тянуть.
— Войдите, — сказала она ему сквозь зубы и стала спиной перед трюмо.
Евлампий Григорьевич вошел на цыпочках, во фраке, как ездил, и с портфелем под мышкой.
— Можно? — повторил он, не переступая порога. Марья Орестовна ничего не отвечала.
Муж ее вытянул еще длиннее шею и вошел совсем в будуар. Портфель и шляпу положил он на кресло, около двери, и приблизился к Марье Орестовне.
— Заехал на минутку… — начал он, переминаясь с ноги на ногу.
— Очень рада, — ответила Марья Орестовна и тут только повернулась к нему лицом.
Евлампий Григорьевич быстро вскинул на нее глазами и понял, что готовится нечто чрезвычайное.
— Вы читали сегодняшние газеты?
Вопрос свой Марья Орестовна выговорила более в нос, чем обыкновенно.
— Нет еще…
— Возьмите на столе… полюбуйтесь…
Она назвала газету.
— Это успеется, — откликнулся он, чуя беду.
— Прочтите, вам говорят. Подайте мне сюда.
Когда Марья Орестовна обрывала слова и отчеканивала каждый слог, муж ее знал, что лучше с самого начала разговора со всем согласиться.
Газету он взял на столе в кабинете и подал ей. Она нашла статейку и показала ему.
— Извольте прочесть…
— Что же… опять братца Капитона Феофилактовича дело?
— Читайте!
Евлампий Григорьевич начал читать. Он разбирал мелкую печать не очень бойко. Ему про себя надобно всегда прочесть два раза, а писаное и три раза.
— Ну! — нервно окликнула его Марья Орестовна.
Она прилегла на длинный стул, где пила какао.
Волнение сразу охватило Нетова. На лбу показались капли пота. Лицо пошло пятнами, как утром у Краснопёрого.
— Канальи!
— Прошу вас не браниться! — удержала она его.
— Да как же-с, помилуйте, — начал он, задыхаясь и разводя той рукой, где у него скомкана была газета. — За это…
— Что за это? К мировому потянете, да?
— Нет-с, не к мировому… В смирительный дом!..
В первый раз видела она у него такую вспышку возмущения.
— Сядьте, слушайте, Евлампий Григорьевич, — охладила она его своим голосом, где сквозили обычные пренебрежительные ноты. — Вот до чего я с вами дожила.
Глаза его разбежались, рот он разинул.
— Вы?.. Я-с?.. Да нешто я виновен тут?.. Я готов за вас…
— Я вас не спрашиваю, на что вы готовы. Вчера еще я много думала… Эта газетная гадость только новый предлог…
— Капитошка!..
— Пожалуйста, без тривиальностей! Ваша родня, вы, весь этот люд… я не хочу входить в разбирательство. Садитесь, говорят вам. Я не могу говорить, когда вы мечетесь из угла в угол.
Евлампий Григорьевич сел у ног ее. Глаза его все еще сохраняли растерянное выражение. Он был ей жалок в эту минуту, но она на него не смотрела; она опустила глаза и прислушивалась к своему голосу.