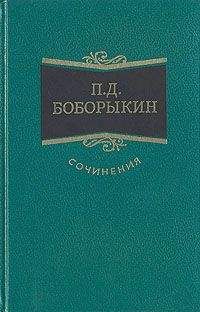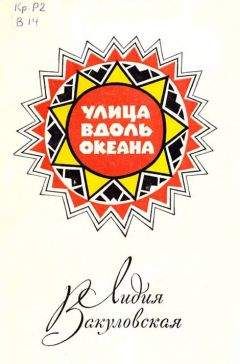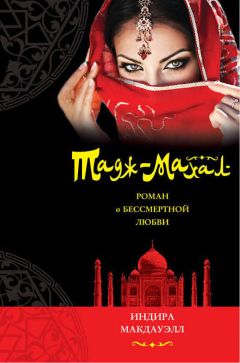Но они скоро сошлись. Он заметил, что Нетова им интересуется. В разговорах с ним она брала менее уверенный тон, спрашивала его совета в разных вопросах такта, знания приличий, даже туалета, узнавала его литературные вкусы, любила обсуждать с ним роман или новую пьесу, игру актрисы или актера, громкую петербургскую новость, крупный процесс… С ней он держал себя почтительно, но без всякой поблажки разным ее «штучкам». Он ей на первых же порах сказал:
— Марья Орестовна, вы уж вашего супруга воспитывайте в византийских традициях, а меня оставьте. Перебирать это старье мы не будем. Для меня московские обыватели одинаковы. А что вы хорошо учились девочкой и с умными господами дворянами беседовали — это при вас останется.
Она немного подулась, но с тех пор и стала держать себя с ним на приятельской ноге.
От этого она не сделалась для него симпатичнее. Но он ездил к Нетовым часто, обедывал запросто, провожал ее в театр, в концерты. Его подзадоривало — кроме выполнения программы: расширять свои связи "в этих сферах" — какое-то «охотничье» чувство… Точно он ждал: до чего у него дойдет дело с этой «злючкой», на какую степень самообмана способна будет она в сношениях с ним, что наконец выйдет из их знакомства. Уважения, настоящего, честного, последовательного, у него вообще не было ни к кому из «обывателей», как он называл всех этих новых московских буржуа. Он не считал себя обязанным перед ними к совестливости человека, живущего в обществе равных себе людей. Он смотрел на себя как на «пионера», на одного из предприимчивых выходцев, отправляющихся в Калифорнию или на американский "Дальний Запад".
Марья Орестовна скоро и близко подошла к Палтусову с протянутой рукой.
Прикосновения этой руки он тоже не любил. Рука была высохшая, но влажная, более чем нужно, и на ее пожатие он отвечал всегда довольно сильно, но по привычке или чтобы заглушить брезгливое ощущение.
— Вас застала моя записка? Благодарю. Вы у нас останетесь обедать… да? Садитесь…
Палтусов видел, что тон ее был гораздо нервнее обыкновенного. Он тихо улыбался, идя за хозяйкой к низкому дивану около камина, скрытому наполовину развесистыми листьями пальмы.
— Был дома, — спокойно говорил он, — дела все покончил… останусь у вас обедать…
Он взглянул на ее платье и спросил:
— Сколько пуговок?
— Не знаю!
— Следовало бы сосчитать…
— Ах, Андрей Дмитриевич, полноте… вы мой юрисконсульт.
— Вот как?
— Да… сегодня я прошу вас настроить себя посерьезнее.
На диванчике могли усесться двое. Половина ее шлейфа покрывала его ноги.
В немногих словах, дельно и едко высказала Марья Орестовна свою «претензию». Она не скрывала постоянного пренебрежительного отношения к Евлампию Григорьевичу. Не желает она дольше работать над его производством в генералы со звездой. Она хочет жить для себя. Ее план — уехать за границу, основаться сначала там, а позднее — где ей угодно в России, на средства, которых она, при всем своем уме, не позаботилась получить от мужа заблаговременно из гордости.
Палтусов уже знал достаточно историю ее девичества и выхода замуж. Ему рассказывали, что отец Марьи Орестовны разорился незадолго до смерти. Женат он был на гувернантке, барышне дворянского рода, институтке, с музыкой и литературными наклонностями. Мать и поселила в дочери и сыне Коле убеждение в их дворянском происхождении, в том, что они «случайные» купеческие дети. Она же и озаботилась дать им тонкое воспитание. Евлампий Григорьевич явился якорем спасения от неминуемой нищеты. Без него и сын не кончил бы курса в университете.
Передавали Палтусову анекдоты о том, как Нетов влюбился, как невеста на всю Москву срамила его, издевалась над его безграмотством и простотой. Однако согласие дала без всякой оттяжки.
И вот утекло десять лет. Марья Орестовна задумала «освободить» себя от Евлампия Григорьевича, а своих денег у ней нет. Она получит то, что ей «следует». Муж уже извещен и должен распорядиться, почувствовать всю глубину ее деликатности. Но этого ей мало. Она хочет дать ему острастку, чтобы он знал наперед, что его ожидает.
Говоря это, Марья Орестовна начала тяжелее дышать. В ней было что-то нездоровое.
"Она кончит какой-нибудь болезнью крови", — подумал Палтусов.
— Да, — выговорила она в виде заключения, — я жить хочу, Андрей Дмитриевич… Силы мои я хочу тратить… на другие вещи…
— На что? — тихо спросил Палтусов.
— Ах, Боже мой! Что же вы меня совсем и за женщину не считаете?
— О! Женщина вы несомненная. Но будто вам нужно то, без чего ваша сестра существовать не может?
— Что же это, например?
— Например… любовное чувство.
Он дурачился с ней не без желания поиграть. Для него это не было опасно.
— Отчего же?
Глаза ее поглядели на Палтусова обидчиво.
— Для вас будет слишком уж накладно.
И он прибавил серьезным тоном:
— Право, Марья Орестовна, невыгодно… Живите в ум. А то проиграете.
— Мы это увидим позднее, — ответила Нетова с усмешкой. — Во всяком случае, вот как стоит дело.
— Дело, — повторил Палтусов ее выражение, — пока в ваших руках… Но не переступите за градус.
— Что вы хотите сказать?
— Ваша материальная самостоятельность стоит на первом плане. Преклоняюсь перед вашей деликатностью и понимаю ее вполне. Вы не хотели заикаться об этом перед мужем. Вы ждали.
— Даже и не ждала. Просто не думала. Вы, конечно, не поверите.
— Почему же?
— Потому что вы считаете меня эгоисткой, интриганкой… Но я горда прежде всего. Я стояла выше этого.
— Евлампий Григорьевич, — перебил ее Палтусов, — конечно, обеспечил уже вас… на случай смерти.
— Я и этого не знаю. И никогда не справлялась.
Палтусов посмотрел на нее вбок. Она не лгала.
— Сложная вы душа, — выговорил он, — а все-таки мой совет вам: обеспечить себя, но с мужем не разрывать.
— Носить цепи, продавать себя, быть в необходимости отвечать на его письма или рисковать, что он явится к светлому празднику ко мне в гости? Не хочу!
— Та, та, та! Вот женщины-то! Даже и умницы, как вы, хромают логикой.
— Знаю, знаю… Сейчас будет Пигасов из «Рудина» и его стеариновая свечка.
— Обойдемся и без Пигасова. Рассудите… Вы разводиться не желаете?
— Нет.
— Просто уезжаете за границу на неопределенное время? Прекрасно… Зачем человека, страстно в вас влюбленного, бить обухом по голове, объявлять ему. что он… для вас не существует? Не хотите его видеть всегда есть на это средства. Денежной зависимости и без того не будет… Сколько я вас понимаю, вы требуете обеспечения сразу.
— Да.
— Тем паче.
Она задумалась и через минуту сказала:
— Вы, быть может, правы.
Разговор наладился. Но ему захотелось продолжить "игру".
— Отчего же так это вдруг, Марья Орестовна? Это на вас не похоже.
Она начала говорить, как ей всегда была противна эта грязная, вонючая Москва, где нельзя дышать, где нет ни простора, ни воздуха, ни общества, ни тротуаров, ни искусства, ни умных людей, где не «стоит» что-нибудь заводить, к чему-нибудь стремиться, вести какую-нибудь борьбу.
И потом… эти пасквили.
Палтусов выслушал и поглядел на Марью Орестовну исподлобья.
— Ага! Неужели они дали толчок?
— И да, и нет, — ответила Нетова.
— Стоит!
— Очень стоит! — резко повторила Марья Орестовна. — С таким человеком, как Евлампий Григорьевич, я никогда не буду избавлена от подобных приятностей.
Ему были известны статейки московской газеты. Они пришлись кстати, доложили лишнюю щепоть.
С этой темы они перевели разговор на более приятные картины заграничной жизни.
— Что вы любите больше всего? Париж, Италию?
— Ничего особенно. Я глупо ездила… Всегда являлся Евлампий Григорьевич. Теперь я по-другому распоряжусь… и…
— Ах, знаете что, Марья Орестовна, — перебил Палтусов, — вам нигде не будет так хорошо, как здесь.
— Не может этого быть.
— Поверьте! Надо во что-нибудь вдаться, иначе вы умрете от пустоты.
— Найду дело!
— Такого, чтобы поглотило вас, — нет, не найдете! Вы здесь — центр.
— Чего это? — с гримасой спросила она.
— Своего мирка. И этот мирок создали вы… Куда вы ни бросите взгляд, все это дело ваших рук. Вы выбирали, вы приказывали, вы сортировали и обои, и мебель, и людей, и отношения к ним. Шутка!
— Для себя не жила! И все это мелко.
— Не стану спорить… А люди? Их надо найти!
— Меня не забудут и старые друзья… — вырвалось у нее…
"Поиграю немножко", — мелькнуло опять в голове Палтусова.
— Друзья-то не забудут. Впрочем, нетрудно и новых завести. Много по Европе бродит охочего народа.