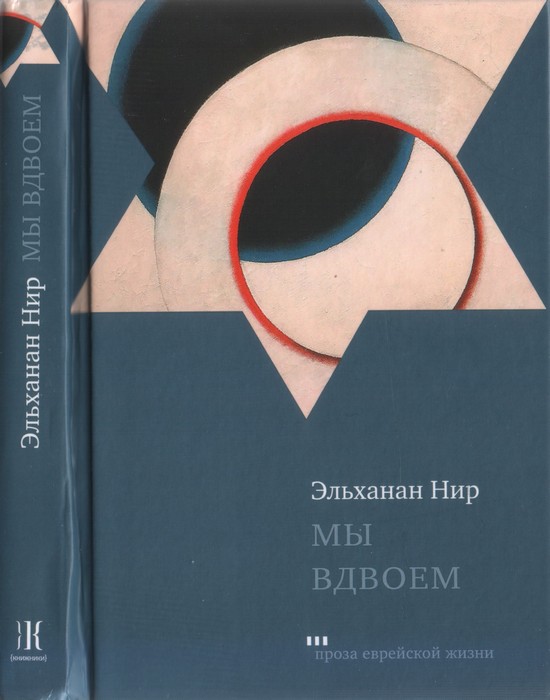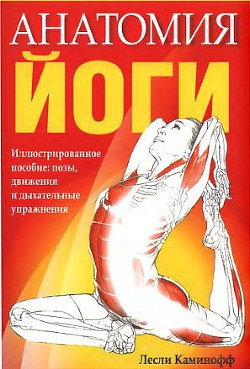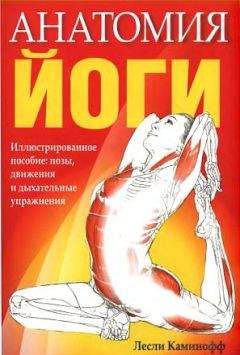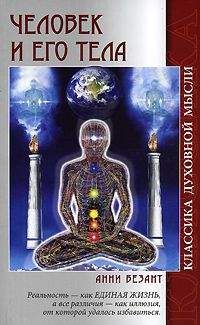толку в этой страсти к изучению ахароним [110], если это только отрывает людей от души и ее потребностей? Все равно ведь, окончив ешиву, люди ни слова не помнят из тех сотен листов Талмуда, что там штудировали». Вена на сгибе его шеи в мгновение посинела, будто вот-вот грозила лопнуть, и Йонатан на секунду испугался.
Амос и Йонатан часто гуляли вдвоем, а порой Амос брал с собой и кого-то из своих детей, и они обходили Йоркеамское озеро с его кристально-чистой, бирюзового цвета водой, прохаживались среди сосен, иногда находили цветущий пылающим пурпуром ирис. Амос сказал: «Человек всю жизнь движется к лику, ищет его» — и дал ему прочесть «Жизнь как аллегория» Пинхаса Саде, «В поисках чудесного» Успенского, ученика Гурджиева, и «Сиддхарту» Германа Гессе.
Йонатан читал эти книги, и в нем появлялось воодушевление. Он садился у озера с книгой, читал, и как-то несколько бедуинов спросили его: «Братан, есть закурить?» — и захихикали, а он вскочил и убежал в общежитие ешивы, где пытался отдышаться и краснел от стыда: он, еврейский мальчик, который здесь живет, убегает от уличных хулиганов — даже здесь мы живем в страхе.
Амос настаивал, чтобы Йонатан вернулся к электрогитаре, которую забросил в начале первого года в ешиве, потому что хотел целиком погрузиться в учебу. «Она вернет тебе дух, освободит тебя, — говорил Амос. — Музыка — вероятно, единственное лекарство от одиночества, и, в отличие от обычных лекарств, польза от нее не уменьшается по мере употребления», — проблеснуло в его словах озорство.
И Йонатан вернулся к гитаре, полный опасений, что та, обиженная на его непостоянство, оттолкнет его ищущие пальцы, и в одной из комнат ешивы начал закрываться с ней по пятницам после обеда. Он убеждался, что двери и окна закрыты, что все уехали на какую-нибудь пятничную экскурсию в пустыню, и бросался играть, позволяя себе ненадолго забыть Идо, Мику, папу, маму.
Официально Амос не был преподавателем в ешиве. Его называли просто Амос, без титула «рав», и даже не «реб Амос», и обращались на «ты». По утрам он работал в гончарной студии, которую устроил у въезда в большой кратер — делал большие котлы из красной глины и продавал немногочисленным туристам, которые, прослышав о необычных его работах, заходили к нему по пути к кратеру и не пугались запрошенных цен. После обеда учился один, много читал, гулял с детьми («Когда я с ними, меня осеняют самые глубокие просветления», — сказал он Йонатану, когда тот однажды несмело поинтересовался о такой сильной преданности детям), а по вечерам общался со студентами в ешиве.
Он беседовал только с учениками пятого класса, которые вскоре должны были покинуть ешиву и выйти в свет.
«Что-то в их страхе перед жизнью, которая вдруг стучится к ним в дверь, раскрывает их сознание, — не раз повторял он. — Только тогда они понимают, что никто им не сказал, а жизнь-то уже началась, колокола уже звонят. Они звонят по ним».
Привязывались к нему немногие, большинство же не понимали, чего он хочет, о каком поиске ведет речь и что за колокола — ведь в ешиве превыше всего была ученость и рассуждения, а все остальное считалось в некотором смысле праздностью, любительским подходом слабых, не умеющих сосредоточиться, серьезно заниматься и потому ищущих переживаний.
Они часто переписывались по электронной почте, почти каждый вечер, о болезни Идо, и Амос каждую неделю звонил и справлялся, и, бывало, Йонатан сбегал от мыслей о болезни Идо и проводил шабат у Амоса и его жены Атерет в Йоркеаме. После долгих молитв, для которых Амос непременно одевался в белое, они выходили к озеру, прогуливались между дымящимися мангалами, и Амос рассказывал ему об инструкторе йоги Иноне Фархи, который занимался у самого Айенгара, великого индийского йога из Пуны, а после бесконечных скитаний вернулся к иудаизму («Но в этом возвращении к иудаизму есть немало страха, — сказал Йонатан, нахмурившись. — Страха, что вся свобода исчезнет, затворится стенами несгибаемой религиозности, которой все известно заранее, и только человек, выросший среди этих стен, умеет не всегда воспринимать их всерьез, ступать между ними без постоянного страха») и основал палаточный лагерь «Адама» [111] для еврейского служения телом и душой в Мицпе-Рамоне.
В Йоркеаме Йонатан немного отдыхал от уныния, овладевшего домом Лехави, и оставался на исходе субботы ночевать у Амоса и Атерет, а наутро первым автобусом ехал в «Адама», упражнялся до заката и возвращался в Иерусалим. Однажды он подошел к йогу Инону и попросил с ним поговорить, и когда они вышли пройтись, Йонатан обратил внимание на его прямую осанку, на высокий лоб и седые пряди, уже начавшие пробираться в его черную, окладистую бороду. Йонатан рассказал ему об Идо и спросил, стоит ли тому заниматься йогой, на что Инон ответил — конечно, ведь даже если упражнения его не вылечат, они придадут его жизни совсем иное качество. Он посоветовал «Старый дом» в Мусраре. «Там есть прекрасная наставница, ей почти семьдесят, и она творит чудеса, не упустите возможность с ней познакомиться», — подытожил он с надеждой в голосе. Когда он говорил, Йонатан уловил в его тоне искру безумия и пожелал себе, чтобы его свеча не погасла, чтобы его вера не поблекла, чтобы он не рухнул, как многие из вернувшихся к вере, под общепринятыми нормами «что другие подумают».
Йонатан возил Идо на семейной машине в «Старый дом» у площади Сафра, оставлял его возле входа и пускался на поиски бесплатной стоянки, но в итоге неизменно отчаивался и, не скрывая отвращения, отдавал деньги охраннику при въезде на парковку. Идо ждал его под исполинским тутовником, и Йонатан помогал ему подняться по безжалостно высоким ступеням арабской постройки.
Учительница всегда начинала с упражнений «приветствия солнцу», после чего переходила к дыхательной гимнастике.
«Сейчас я выдыхаю в сторону болезни и говорю ей: ты можешь выйти, продолжай свой путь. — Ее голос медленно проносился по комнате, растворялся в направлении Шхемских ворот и трех башен на востоке: храма Вознесения, колокольни Августы Виктории и Еврейского университета, что виднелись сквозь большие окна. — А сейчас выдох с силой, все тело с эмпатией провожает выходящий воздух. Болезнь — это всего лишь просьбы о помощи нашего тела, нужно просто понимать эти просьбы, это настороженность, ищущая дружбы, стена, ждущая, когда в ней появится наше окно».