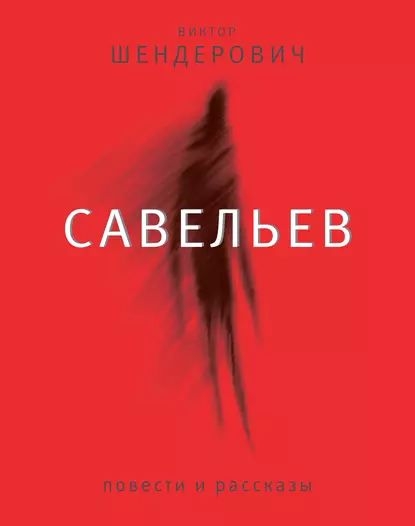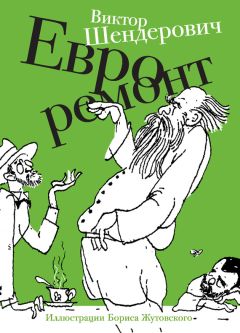говорит коротышка, — ты назначен мною бессменным дежурным по сортиру — что не ясно?
— Сортир убран, товарищ старший сержант, — говорю я, не узнавая своего голоса.
Спичка дважды перелетает из угла в угол обметанного прыщами рта. Плотное тело отваливается от косяка и подходит ко мне. Его место в проеме занимают зрители.
— Чего сказал, солдат?
— Сортир убран.
Удар по косточке, по ноге, стертой еще на полевом выходе.
— Ножки вместе поставь, товарищ рядовой! — Ощеренный рот обдает меня смрадом. — И еще раз повтори, а то я не расслышал!
Пузырек холода в животе, лопнув, разливается по телу.
— Сортир убран, — говорит кто-то моими губами, — и сегодня я больше туда не пойду.
Спичка перестает прыгать из угла в угол рта, застывает у бугристого подбородка.
— Хорошо, солдат.
Резкий поворот; мускулистый торс в голубой майке, задев Глотова, исчезает за косяком. Мое тело, ожидая своей судьбы, остается стоять у раковины. Ждать ему недолго.
— Дневальный, подъем третьему взводу!
— Не надо! — Я бросаюсь в коридор: — Не надо, подождите! — но уже орет дурным петухом перепуганный дневальный, и скрипят пружины коек, стряхивая в проходы измученных недосыпом заложников. Тела образуют строй, и я замираю, парализованный неотвратимостью этого построения.
— Третий взвод! — сияя чудовищной своей правотой, кричит вырванным из сна людям коротышка. Предстоящее распирает его. — Рядовой Ерохин, находясь в наряде вне очереди, отказался убирать сортир! — Он делает паузу, давая десяткам воспаленных глаз найти мое тело, съежившееся у шинелей — там, где застигло его построение.
— Рядовой Ерохин устал, — сочувствующе поясняет коротышка и снова делает паузу, грошовый клоун. — Он перетрудился. Поэтому сортир за него уберете вы.
Я отворачиваюсь, я не хочу видеть их, никого, но голос настигает меня, рвет на куски:
— Надо выручать товарища. — Пауза. И не глядя, я вижу, как он набирает в свою квадратную грудь воздух. — Напра-во! Ерохину — отбой, остальные — в сортир — бего-ом… Отставить! По команде «бегом» корпус наклоняется вперед, локти согнутых рук прижаты к бокам… Бего-ом… — марш!
Мой взвод бежит мимо моего тела, стоящего у шинелей, следом, шаркая, проходит коротышка.
— Товарищ старший сержант, — говорю я. Слова комкаются в горле. — Разрешите мне…
— Отбой, солдат, — ледяным голосом обрывает он. — Отбой по полной форме. — Губы брезгливо извиваются у прыщавого подбородка. — Спокойной ночи. Надеюсь, тебя хорошенько отхристят [3] сегодня. Бегом была команда! — рявкает он вслед взводу и, шаркая, отправляется в бытовку, у входа в которую одобрительно ржут сержант Глотов и тот, второй.
Когда я открыл глаза, спина в голубой майке только скрылась за дверью, но это была дверь в ванную.
Полоса солнца лежала на стене гостиничного номера.
Тушеная капуста с котлетой неизвестного происхождения, стакан пахнущего посудомойкой чаю и два куска хлеба. Уже можно было уходить, а я все сидел за грязноватым буфетным столом. Я ждал девяти — в девять открывалась справочная будка на площади. Я нашел ее на рассвете, пройдя по пустынной улице до памятника, протянувшего в эту пустоту свою традиционную руку. Коты неспешным шагом переходили проезжую часть, сморщенные афиши вечернего концерта зубрили мою фамилию; над запертым тиром красовалась эмблема ДОСААФ и лозунг «Учись метко стрелять!».
Без двадцати девять я перестал возить по тарелке остывшую котлету и вышел из гостиницы.
Киоскер пересчитывал газеты, у окошечка уже собирались прохожие; один был совсем небольшого роста и коренастый, но гораздо старше. Я встал в хвост и купил «Правду» — рука киоскера в обрезанной старой перчатке привычным жестом бросила на блюдечко сдачу. Я спрятал двушку в кошелек — может, пригодится. Отойдя, развернул газету и механически пробежал ее по диагонали, читая и не понимая заголовки. Я посмотрел на часы — было без семи девять — аккуратно сложил газету и, сдерживая шаг, двинулся по лучу уже знакомой улицы.
Я не знал, что буду делать, когда чья-то рука протянет мне из окошечка листок с адресом.
Я уже понимал, что не убью его, не сумею даже напугать по-настоящему. Воровать пистолет у постового? Яд из аптеки? Смешно. А смешнее всего — я сам в роли Гамлета. Что же тогда?
Но ноги уже привели меня к будке на площади и встали у окошка, за которым копошилась, раскладывая свой утренний пасьянс, седенькая Немезида.
— Имя, отчество…
Его отчество я знал.
В тот вечер, объявившись в новенькой парадке с широкой щегольской полосой вдоль погон — погоны ему пришивал и чистил сапоги маленький каптерщик Гацоев, он же носил в коробочке из-под сахара пайку из столовой, за что был милостиво снят с физзарядки… — так вот, в тот вечер коротышка построил взвод и, воняя по случаю своего старшинства, велел отныне и до дембеля называть себя по имени-отчеству, каковое и сообщил с неподдельным уважением. Я было подумал, что он пьян, но ошибся. Это было что-то другое.
— Вопросы.
Вопросов нет — мы молчим. Взгляд трезвых, холодно-веселых глаз начинает скользить