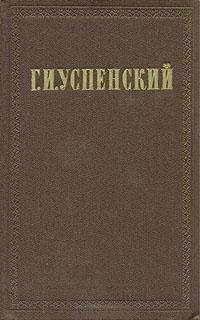— Кто желал "Помилуй мя боже"?
После незначительного молчания какой-то мужичок выделился из толпы и почти шопотом сказал:
— Мы.
— Ну вот, извольте.
4
Слепой придвинулся с креслом к инструменту, протянул руки к клавишам, низко нагнулся над ними, и в ту же минуту лицо его приняло умное, даже глубоко умное выражение. Тихим речитативом, тихим и мягким тенором, он не пропел, а с глубоким чувством произнес медленно, вразумительно первый стих псалма: "Помилуй мя, боже, помилуй мя!"
Осторожное прикосновение к клавишам, двумя, тремя тягучими скорбными нотами, придало этому покаянному вздоху рыдающее выражение, — и толпа была сразу взята этими звуками "за душу", "за живое". Приходилось мне бывать на богослужениях в католических соборах за границей, в Париже, Кельне; сравнивать музыку церковных органов с музыкой ветхого гармониума на базарной площади, конечно, было бы делом "неуместным", но мне кажется, что в речитативах и музыке базарного певца было одно несомненное достоинство: речитативы его возбуждали в толпе понятные ей душевные муки и скорби, прямо проникали в душу, в совесть слушающей толпы; в речитативах слепца звуки только усиливали смысл и значение, как бы пересказываемых им, душевных терзаний псалмопевца. Красота, сила и могущество звуков органа и хора поглощают простой и трогательный смысл слова, выраженного в духовной песне. Эти звуки органа и хора волнуют, потрясают, то радуют, то разжалобливают, но действуют, главным образом, только на нервы слушателя, волнуя их неясно сознанным, хотя и могущественным впечатлением. Великолепный архиерейский хор в нашем православном кафедральном соборе также потрясает только нервы слушателей, стремясь к тому, чтобы в сильные моменты религиозного пения громокипящими звуками был переполнен весь огромный храм, вплоть до самой дальней глубины всех четырех куполов. "Хорошо!" — говорят знатоки хорового пения, когда дьякон сумеет расколоть своим многолетием несколько аршинных стекол в окнах собора. И точно хорошо, даже, как выражаются любители, "любо-два".
Но все это ничто сравнительно с вразумительным, задушевным пересказом внятными, понятными каждому живому человеку словами, который сразу захватил за душу всю толпу простого народа, как только слепец произнес первое слово и усилил его осторожным, в меру взятым, простым, подходящим к смыслу слова звуком своего полугнилого гармониума.
Омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня…
Беззакония мои я сознаю и грех мой всегда пред тобою…
Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя…
Когда, при каких условиях русский простой человек, этот вечный недоимщик, неплательщик, этот постоянный разрушитель доверия к России крупных финансовых фирм, постоянный напоминатель всему отечеству о предстоящих неурожаях, засухах, голодовках, когда это существо, с представлением о котором всегда мерещится какое-то и чего-то разорение, измождение, непосильное растрачивание сил, питаемых мякиной, древесною корой, — когда и при каких наилучших обстоятельствах своей жизни могло бы это существо хоть только ознакомиться с ощущением своего личного падения, греха, личного страдания, личною скорбью о самом себе? Тот же псалом весь век бормотал ему сельский приходский дьячок, также в недалеком от него расстоянии — с клироса и также с целью наполнить звуками "кумпол" сельской церкви. О покаянии во грехах и батюшка напоминал перед великим постом с амвона. И каяться ходил всякий из этой блуждающей по лицу земли русской толпы простого народа, плетущегося за куском хлеба, за пропитанием для своего семейства… Но никогда никто из всей этой темной, удрученной куском хлеба массы не ощущал самого себя и не задумывался над самим собою, над своею совестью, над своею душой в таких огромных, неожиданных размерах, как это заставил его невольно ощутить простой, задушевный, выразительный пересказ базарным музыкантом понятных всякому живому человеку слов о понятных человеческих грехах и скорбях.
Слова, исходящие из страдающей души человеческой и проникающие в такую же страдающую душу, которая никогда не придавала им никакого значения, да и теперь лишь ощущает только то, что затронуто что-то горькое в душе, — эти слова на неизмеримо далекое расстояние унесли все мысли толпы от ее ежеминутной, вековечной трудовой маяты. Толпа вся состояла из тех же самых трактирных и кабачных, опухших или истощенных рабочих, привлеченных "процветанием" когда-то тихого и чистого места. Крестьяне, казаки, женщины, продающиеся на плантации и на разные полевые работы, — словом, всё был тот самый народ, которого всякий видит не иначе, как живущим под властью каких-то суетных забот, тревог, огорчений и вообще не светлых, не широких мыслей. И вся эта масса ординарных, иногда ничего не внушающих лиц, или внушающих только тяжкие мысли и ощущения, была поистине неузнаваема. На опухших, кабачных лицах легли черты детской слезливости, а у иного тряслась голова и из тусклых глаз падали слезы куда ни попало. Слышались глубокие вздохи, иногда всхлипывания, и вообще вся толпа превратилась в скорбящего человека, человека с сокрушенным сердцем, совсем не похожего на ту человеческую силу, которая бесцельно тратит себя в лошадином труде и в смрадном кабаке.
Нет! нигде, ни на базаре, ни на черной работе, ни в кабаке, никогда не забирала такая горькая тоска о самом себе, какая забрала толпу словами и звуками базарного певца и базарного инструмента. Слова и звуки, до мельчайших подробностей, слушались всею толпой и среди ненарушимой тишины. Солнце ярко и внимательно смотрело на этих крепко задумавшихся людей, и они без шапок, с вспотевшими головами, с огорченными лицами, жадно припадали своими сокрушенными сердцами к простым, но "за живое", "за душу" берущим словам:
Возврати мне радость спасения твоего!
5
Быстро мчался поезд, убегая от процветающего города и направляясь к станции Тихорецкой, но я расставался с ним далеко не с тем удовольствием, которое ощущал несколько часов тому назад, при приближении минуты отъезда. Теперь я бы охотно остался в этом городе еще на целую неделю, лишь бы мне хорошенько разузнать подробности о слепом базарном певце и музыканте, ближе сойтись с ним, познакомиться, послушать его рассказы о том, что видел он на своем веку. Но нельзя было остаться ни минуты, и я волей-неволей должен был отказаться от истинного удовольствия хотя бы еще раз видеть и слышать этого человека. Однако желание все-таки хоть что-нибудь и от кого-нибудь узнать о нем не покидало меня и в дороге. Не раз я обращался с вопросами к моим соседям, пассажирам третьего класса, все людям простым, большею частью чернорабочим, прохожим и перехожим людям, полагая, что если им известны базарные кабаки и базар вообще, то не может быть неизвестен и базарный певец.
Почти все до единого, к кому я ни обращался, знали его, слышали, все были растроганы его псалмами, все хвалили, но никто ничего более обстоятельного о нем не знал. Раза два я пересаживался и перетаскивал мой дорожный мешок из вагона в вагон, входил в знакомства с новыми проезжими новых вагонов, но все было безуспешно; наконец, уже под самою Тихорецкою станцией, на мое счастье, попались мне преприятные собеседники. Это были наши великороссийские мужики, переезжавшие на заработки на другую половину Северного Кавказа, к Ставрополю, так как в "этих местах" дюже много "набило" народу со всех концов России.
Все они знали певца и все хвалили.
— Уж чего лучше! Уж разжалобит, так разжалобит! Уж нечего сказать!
— Хорошо, одно слово, хорошо! И везде он, по всем станицам, по ярмаркам ездит, и везде его почитают!
— В наших местах и не слыхивано, чтобы этак-то божественное петь!
— Так тебя слезой и прошибает!
— Кто ж он такой? — спросил я, вдоволь наслушавшись искреннейших похвал.
— А бог его знает! Звать-то его Семен Васильевич… в Киеве, вишь, в монастыре, монах его, слепого, научил музыке-то… А так, чтобы толком сказать, нет, этого не знаем.
— Хочешь знать, кто таков Семен Васильев? — громко и храбро провозгласил какой-то мастеровой из железнодорожных. Развязный парень, в картузе набекрень, заняв ногами два передних места, сидел у окна на противоположной от нас стороне и крутил папироску из газетной бумаги.
— Коли знаешь, так скажи.
— Адвокат! вот кто Семен-то Васильев!
— Слепой-то? — в изумлении спросили мужики, да и я не мог не воскликнуть:
— Как? Этот слепой и певец — адвокат? как же может это быть?
— Очень просто! Примал дела, решал по законам!
— Слепой?
— Окончательно!
— Верно, верно! — подтвердил слова мастерового новый собеседник, по внешности мелкий торговец. — Верно! Действительно, был когда-то… занимался. Теперича он оставил это занятие, а года два тому назад очень много делов делал.