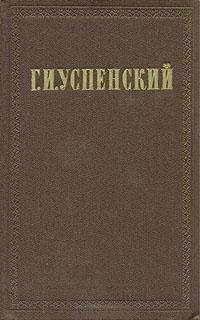— А как же он мог делать это?
— А очень просто: были у него законы, книги… И вот он заставлял читать их свою жену; она читает, а он запоминает… А когда вытвердил, так приказал жене сделать с боку книги обрез. Как какая часть оканчивается, так она и вырежет… Так оно, если сбоку смотреть, ступеньками вышло. И он щупом знал, на каком вырезе надо отвернуть и по какому делу какой вырез… Покажет жене пальцем, на каком месте надо книгу открыть, и заставит ее читать закон. "Читай мне статью такую-то", — ну, та и читает, а потом пишет, что он приказывает, и бумаги за него подает.
— Да кому же охота идти к слепому, когда есть настоящие, зрячие адвокаты?
— Э-э-э! господин, разве мало тут темного народу-то по Кавказу ходит? Пришлый он, темный, ничего не знает, где ему адвоката искать? Он и так-то путается, как во тьме кромешной. Здесь его, пришлого-то, иногородного, любят теребить. Там отдадут в аренду, деньги возьмут и гонят, а иной, недобрый, мало прогнать, еще и взыскивает… И условие написать на аренду земли, и от напрасного взыска вывернуться. Мало ли делов! Темный, несведущий человек, как паутиной, ими опутан. Тут и слепому будешь рад-радехонек, только бы заступился.
— А заступался?
— А как же? Прежде оченно его хвалили… Все подробно рассудит, расспросит, бумагу напишет, укажет, к кому идти. Посоветует, хорошо посоветует! Хвалили!
— И деньгу тоже хорошую наживал! — развязно присовокупил мастеровой. — Огребал, можно сказать, деньгу-то!
— Ну уж и огребал! Тоже, язык-то у тебя как обух молотит! Откуда ему огребать-то?
— И не токмо огребал, а и под проценты пущал, вот что, ежели тебе угодно знать!.. Да! под заклады давал! Понимаешь? чуешь? Под заклад!
— Нет, почтенный, это не он. Это, ежели сказать правду, женино дело! Действительно, очень может быть. Но только это женино дело… Она тоже тонко дела понимала и много помогала мужу. Теперь вот он без нее-то как без рук!
— Умерла? — спросил я.
— Умереть не умерла, только время провела! — опять провозгласил мастеровой.
— Рассталась, то есть, — объяснил мелкий торговец.
— Ра-зо-шлась! — иронически произнес мастеровой. — Подобрала деньжонки, да и удрала, с богом по морозцу. Ловкая дама! Умерла очень приятно!
— Действительно, надо сказать, скрылась она, — объяснил мне торговец, — неизвестно где находится… Вот, как она ушла-то, ему уж пришлось дела-то судейские бросить. Куда! И много по этому случаю огорчается на него народу. Где какие бумаги, не знает, сам сыскать не может. Много убытку натворил!.. Напутал!.. А то, бывало, день псалмы поет, а после обеда по судебным делам принимает. Ну, теперича ему осталось только что петь, да инструмент… вот все его имущество.
— Что ж, хорошо, хорошо поет! Дай бог ему здоровья! Хорошо!
— Этого уж не отнять! Камень, и тот заплачет.
И опять много-много хвалили слепого певца.
— А что, ребята, чудится мне, будто иной раз, во псалме-то, словно бы и не по нашему вкусу поется?
Это проговорил новый собеседник, молодой плечистый парень, все время слушавший разговоры молча, пожевывая белый хлеб. Парень был рослый, сильный и с добродушным лицом, но в его глазах, маленьких и бледнозеленоватых или бледносероватых, был какой-то нездоровый блеск и какая-то неподвижность выражения. Не то в них таилась скрытая, но острая злоба, не то до болезненности острое горе. Ел он не спеша, как будто лениво, но казалось, что нервы его не так спокойны, как кажется с первого взгляда.
— В псалме-то не по твоему вкусу? — оборвал его мастеровой. — Очнись, прочухайся!
— Пра, не по-нашему! — сдержанно улыбаясь и вовсе не смущаясь окриком мастерового, говорил парень, не спеша продолжая жевать белый хлеб.
— А ты слухал, как слепой-то пел?
— Как не слухать! Плакал, не то что… В неделю-то раза по три от работы отрывался, даже стал все слова запоминать….
— Ну, так что же не по-твоему вышло?
— Оно, коли ежели взять, как человек кается, так хорошо… нечего говорить! Это в псалме хорошо! Вот я с перву-то началу эти слова-то и принимал к сердцу. Все мы грешные. Мы ведь какие анафемы-то? (острая черта не то злобы, не то душевного недуга мелькнула в глазах парня). Нешто нашему брату, ежели сказать по совести, можно вполне доверять? Когда перед арендателем-жидом тихоней притворяемся — есть тут правда? Норовишь сам его оплесть! Ведь на уме одно: только бы его-то оборудовать хорошенько, в дураках оставить! А бабе, случаем, не наплетешь разве всякого? Не обманешь?
— Нечего сказать! Хорош паренек! — нравоучительно проговорил мастеровой.
— Да и сам-то ты нешто так и не норовил оплесть человека, чтобы тебе лучше было?
— Оплесть — не оплетал, а охулки на руку не клал!
Слушатели рассмеялись, а мрачно настроенный парень продолжал:
— Вот так оно и есть по нашему-то вкусу! Виноват пред богом! Уж пойду каяться, так не к тебе, не к арендателю и не к бабе! Только к богу! Только он может меня помиловать… Распахнусь весь! Подлец я! Обманщик! С умыслом один глаз на грехи закрывал, будто не вижу! Прости меня все, кого я обидел и надул, — не легче мне от этого. Только бог, он может меня очувствовать… Перед ним — разорвусь! Ни пред кем так не откроюсь, только пред ним… Покаюсь из всех сил! Раздерусь, а с пустыми словами к нему не пойду!
— Чего? — совершенно не понимая, что говорит мужик, прищуриваясь, сболтнул мастеровой.
— Да, не пойду с пустяком к создателю! Ты сам не знаешь, отчего ты оподлел, очертел, — он знает! Перед ним надо только распахнуться! Всю нечисть-то оказать вполне! Вот, мол, сколько в меня нечисти нанесло! Как мне быть? А чтоб с умыслом подходить — это… уж мне не по вкусу!
— Хорош, хорош паренек! — иронизировал мастеровой. — Хорош!.. Оказывается, умеешь ты грехов на душу-то намотать!
— Да, брат! Много у меня грехов, много! И у тебя, поди, не мало?
— Ах ты, чудодей этакой! — снисходительно засмеялся мастеровой. — Болтает неведомо что! Так слепой-то не по вкусу пришелся?
— Нет, брат, по вкусу он мне! Дай бог ему здоровья! Призри его, господи, добро он нам делает! А не по вкусу мне, чтоб молиться с хитрым умыслом, это мне не по вкусу! За слезу-то и спасибо Семену Васильеву! Это дело доброе!
— Перед богом доброе дело! — подтвердили несколько голосов. — Что хорошо, то уж того отнять нельзя!
— Я и на работе плакивал с холоду, да с голоду, да со злу, — продолжал парень, — да не та была слеза!
В таких разговорах незаметно подошла и станция, и все мы разбрелись, кто куда.
6
Со дня этой неожиданной встречи со слепым базарным певцом, оказавшимся к тому же и крестьянским адвокатом, прошло уже три года; но пройдет и еще три, а мне кажется, что эта мимолетная встреча не изгладится из моей памяти. Ежедневная "газета" приносит нам десятки известий о многих невзгодах народа и о многих проектах мер, предпринимаемых к облегчению его изнурительной жизни. Но до крайности редко и на этих мелко-премелко напечатанных и длинных-предлинных столбцах слышатся слова, касающиеся духовных надобностей народа. Мы рады, благодарны, искренно ценим труды подвижников на пользу народного благосостояния, но не можем также не ценить и тех не имеющих определенного наименования, звания, положения "невидимок", которые среди темных народных масс, из-за совести или просто из-за куска хлеба, удовлетворяют, как умеют, те требования духовной жизни народа, которым в расходных статьях всевозможных бюджетов не оказано решительно никакого внимания. Не подвижники эти "невидимки", радетели о духовных надобностях народа, — это просто добрые люди или же, повторяю, люди простого расчета, куска хлеба; но в том и в другом случае — честь им и хвала — они умеют понять, что народная душа расстроена не менее народного кармана, и ощущают надобность прийти ей на помощь, откликнуться на ее заботы и печали. Семен Васильевич берет деньги за псалмы, но ведь и "гречаники" он бы мог отдернуть как следует для пьяных приказчиков, кутил купчиков и вообще для всяких веселых людей. Денег, конечно, эти веселые люди надавали бы ему гораздо больше, чем это могут сделать крестьяне и рабочие. Но почему-то он чувствует себя лучше и приятнее, когда вокруг него толпится душевно растревоженный, умиленный простой человек, дающий ему свои копейки от чистого сердца и — он знает это — "за дело". И если Семен Васильевич предпочитает трогать народ "за душу" не для веселья, а для пробуждения в ней скорби о самой себе, то, стало быть, кроме хлеба, у него есть и добрая мысль о меньшом брате, и, переезжая на волах из станицы в станицу, с ярмарки на ярмарку со своим инструментом и с табакеркой, он до некоторой степени сознательно заботится о пробуждении народной совести. Его нельзя не почитать наряду с теми "невидимками", радеющими о народной совести, которые, невидимо и непонятно для нас, делают в народе добрые дела несравненно большего размера.