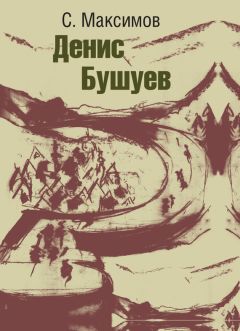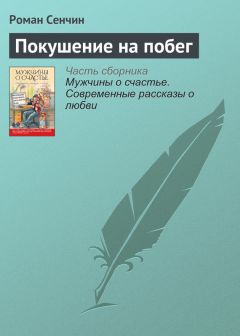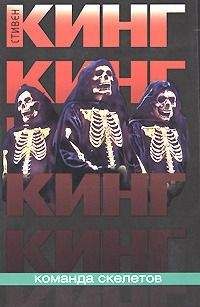– Может, придет, а может, и вовсе не придет, – усмехнувшись, сказала она, чувствуя, как поднимается знакомая беспричинная ненависть к мужу.
– Не придет? Говоришь, – не придет? – тихо пробормотал он, заводя ее руки за спину и стараясь поцеловать в шею.
Она рванулась.
– Пусти, Алим!
Он впился пухлыми губами в ее шею и еще крепче сжал руки.
– Пусти, дьявол! Я тебя ненавижу! – не помня себя, крикнула Манефа и вырвалась из его рук. Он схватил было ее за плечи, но она опять увернулась. С треском разорвалась кофточка, покатились на пол пуговицы. Покрасневшие глаза Алима сверкнули тяжелой злобой, он нагнулся, поднял косарь и взмахнул им над головой жены. Она тихо вскрикнула, присела и зажмурила глаза.
Но косарь не успел опуститься на голову Манефы. Кто-то стрелой метнулся с порога и схватил Алима за руку, повиснув на ней. Это был Мустафа.
– Ты… с ума сошел… – прерывисто проговорил он, вырвав косарь и швырнув его в угол к рукомойнику.
Алим схватил брата за ворот зеленой гимнастерки.
– Чего тебе надо, Мустафа?
– Не тронь ее!..
– Ты кто? Кто ты такой? – загремел Алим и, встряхнув руками, ударил брата головой о кирпичную печь. Он был ниже Мустафы и, сверкая глазами, смотрел на него снизу вверх. Горячая татарская кровь забила ключом в жилах обоих братьев. Мустафа замахнулся увесистым кулаком, чтобы сокрушить брата, но вдруг тихо опустил руку, обмяк весь как-то, оттолкнул Алима и подошел к Манефе.
Она сидела на полу, обняв колени. Черные короткие волосы, растрепавшись, закрывали лицо. Мустафа тронул ее за плечо. Она быстро вскочила на ноги, огляделась. Прищуренные серые глаза смотрели без всякого испуга, чуть насмешливо. Правой рукой она старалась прикрыть обнаженную грудь – кофточка была разорвана до живота. Она совсем не испытывала испуга, его не было даже и тогда, когда косарь взвился над ее головой. Она ощущала лишь удивление. Таким она видела Алима первый раз в жизни, и первый раз за два года супружества Алим занес на нее руку. И в то же время она сознавала свою вину и понимала Алима. Как ни сыро дерево, но если под ним раскладывать каждый день костер, то оно, в конце концов, загорится. Она не могла не видеть, что с каждым днем Алим, прежде мягкий и тихий, все больше и больше превращался в нервного, злобного и неудовлетворенного человека. Огонек, который она же медленно и настойчиво разжигала, вспыхнул ярким пламенем, чуть не стоившим ей жизни. И удивление сменилось ясным и четким осознанием своей вины. Но не в том смысле, что она виновата, а в том, что она не могла поступать иначе, не любя мужа. Война велась с первого дня свадьбы, но носила скрытый характер, теперь же Алим объявил ее, но заставила его объявить она. А раз так, раз война объявлена им, то пусть он, как явный зачинщик, и понесет всю тяжесть вины и будет за все ответчиком. И, ох, как дорого обойдется ему необдуманное, торопливое объявление этой войны!
– Что же вы не добили друг друга? – тихо спросила Манефа и вышла в горницу.
Мустафа провел ладонью по затылку – на руке заалела кровь.
– Как ты меня крепко саданул… – сказал он брату и примирительно улыбнулся.
Алим вздохнул и отвернулся к окну.
Полдень. Над Татарской слободой по голубому блюду неба расплескались мыльные хлопья облаков. Увязая в буром суглинке, лениво бредет по берегу Волги стадо коров. Танцуют волны зноя; вьются, тихо жужжат оводы. Бесконечно медленно плывет по стеклянной зеленоватой воде длинный плот; слышно, как негромко переругиваются на нем люди.
Алим Ахтыров неторопливо опрокидывает в рот рюмку водки, корчит гримасу, – не то удовольствия, не то отвращения, – щелкает пальцами и закусывает селедкой. Жарко. Нестерпимо жарко. И от палящего нещадно солнца, и от выпитой водки. Широкое, гладко выбритое лицо Ахтырова раскраснелось и покрылось мелкими капельками пота. Ворот защитной гимнастерки расстегнут, хромовые сапоги сняты и аккуратно поставлены на траву возле бочки с тепловатой и грязной водой. Напротив Ахтырова сидит, согнувшись, в глубокомысленном созерцании прозрачной влаги в рюмке Гриша Банный. Он очень худ и тощ, голова его напоминает желтую дыню со странным нежно-красным хвостиком внизу – бородкой. Оба сидят уже два часа под широколистым кленом в саду Ахтырова, и оба выпили уже по восьмой. Гриша Банный с удовольствием бы уснул, но мешают мухи и сознание, что неудобно спать, когда хозяин дома еще бодрствует…
Гриша Банный и Алим ровесники, более того – они родились в один день.
– Поздравляю вас, Алим Алимыч, с сорокалетием, так сказать, жизненной деятельности… – в девятый раз поздравляет приятеля Гриша Банный и поднимает большую рюмку.
– Пей на здоровье, Гриша, – рассеянно отвечает Алим, – и тебя, друг, с сорокалетием… Молодость-то прошла, друг Гриша, прошла.
– Оптический обман-с…
– Чего?
– Н-нет, это я так… на свои туманные мысли…
Помолчали. Над садом пролетела стайка диких уток. Гриша сладко сощурился на бочку с водой, скривил бескровные губы маленького рта и вдруг во все горло хриплым тенорком запел:
О Боже, Боже, согреши-ила
Дочь благородного-о отца-а-а…
– Тише, Гриша, тише… – поморщился Алим. – Скажут, у председателя колхоза с утра пьянство… Помолчи.
Гриша покрутил головой и замолк.
– М-мухи, чёрт бы их драл… – вяло заметил он через некоторое время.
Алим погладил ладонью круглый побритый затылок и тихо, неожиданно сообщил:
– Одиночество чувствую, Гриша… Одиночество.
– Почему? – удивился Гриша, приподнимая нежно-красную бородку. – А жена? Манефа?
Алим не ответил, кусая белыми зубами травинку.
– Оч-чаровательная жена у вас, Алим Алимыч… Не жена, а весенний рассвет, лунный блик на черном фоне современной жизни, оптический обман-с… Обладать такой женщиной – да ведь это неземное счастье! А вот я, при моей весьма легкомысленной и пустяшной жизни, всегда как-то на своем пути встречал женщин с весьма сомнительными достоинствами…
Он откинулся на спинку тонконогого венского стула, достал из грязной помятой пачки дешевую папироску и продолжал:
– При наличии нормальной нравственно-моральной жизни… гм… такая женщина может безусловно составить счастье мужу. Философ-самородок Отроков говорил насчет супружеской жизни так… гм… как это он говорил?.. – Но позабыв сентенцию философа-самородка, Гриша безнадежно махнул рукой и чуть не съехал со стула. С огромными усилиями он выпрямился и закурил.
Алим наблюдал за ним долгим пристальным взглядом.
– Вот смотрю я на тебя, Гриша, и не пойму: что ты за человек? А ведь знаю тебя давненько… Говоришь ровно бы по-ученому, много знаешь, много видел, а человек так себе: ни богу свечка, ни чёрту кочерга.
– Верно-с, Алим Алимыч. Странный я человек, даже сам на себя иногда удивляюсь, до чего я странный. А ведь был я, доложу вам, и в учении… Физику изучал… Но ранняя склонность к разного рода порокам-с помешала мне сделаться, так сказать, полным человеком. Теперь все уже давно утрачено, и есть только пародия, так сказать, на человека, без фамилии… Фамилия заменена кличкой Банный-с… есть только Гриша Банный.
Он умолк, опустив голову-дыню.
– А на войне ты, Гриша, был?
– Был, был и на войне. Но солдат я ничтожный и чрезмерно робкий. Других убивать не могу, но и себя берегу. Хотели меня один раз расстрелять за то, что перед атакой я от ужаса в отхожее место спрятался, но признали слабоумным и ограничились одним выговором-с…
– А я, брат, и в мировую, и в гражданскую в тылу отсиделся.
– Гм… своего рода искусство-с! У меня в Промкоопсбыте, в Кинешме, приказчик был… Так вот, доложу я вам, до чего искусник был цыплят воровать. Ах, мастер! Утянет, и все шито-крыто. Но кроме цыплят ничего не брал. Искусство своего рода…
Гриша Банный закашлялся и сухими длинными пальцами тронул горло. Белесые навыкате глаза увлажнились, и прозрачные ноздри тонкого носа несколько раз ёкнули, как печенка у усталого коня.
– Слабость иногда чувствую, Алим Алимыч, слабость во всем организме, – пожаловался он.
– Пить тебе совсем нельзя, Гриша, – строго сказал Алим и, подперев щеку рукой, тихо замурлыкал какую-то песенку по-татарски, но оборвал ее на полуслове и снова повернулся к собеседнику.
– А вот скажи ты мне, Гриша, где ты это с науками познакомился?
Гриша быстро выпрямился и уклончиво ответил:
– Одну науку постиг в одном месте, другую – в другом; в разных местах. С физикой, например, в двадцатом году…
– А ну, расскажи о физике, что ли… – грустно попросил Алим, – мне сейчас все равно, что слушать. О физике, так о физике.
– Был я одно время, доложу я вам, Алим Алимыч, заведующим баней, воинской, понятно, – охотно начал рассказывать Гриша. – Кстати, кличка моя – Банный – произошла не оттого, что я был в должности воинского банщика, как некоторые ошибочно думают, а потому, что проживаю я в течение многих лет возле колосовской бани, как вам известно; это я так, между прочим сообщаю… Теперь возвращаюсь к теме о физике. Ну-с, в бане той красноармейцев мыли. С позволения вашего, вшей и всяких там других паразитов специальным паром уничтожали. Ну, тоска, знаете, смертная: вши да пар. А я возьми да и начни физику изучать… Учебник достал, Поморцева М. М. «Некоторые занимательные физические опыты». И впервые познакомился с удивительными законами оптики и вообще физики… Потом и пособия достал: за осьмушку махорки выменял у красноармейца увеличительное стекло, называется – лупа… Ну-с, солдатики моются, значит, а я возьму экземпляр натуральной вши-с (тут же у них в белье и достану) и сквозь лупу смотрю на их лапки и хвостики. Главное, меня интересовало: чем же они так больно кусают…