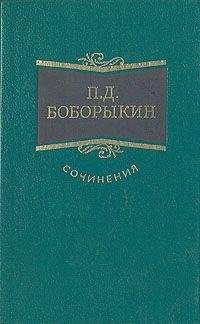— О Спинозе.
И глядит на меня, улыбаясь во весь рот… Спиноза! Что это такое Спиноза? Меня просто взорвало. Этакая дура? Однако я покраснела, кажется.
Меня выручил Поль.
— Вы не читали Спинозы, — начал он паясничать.- Que je vous plains, madame.[6]
Все рассмеялись.
Плавикова хоть бы моргнула. Сидит и млеет как купчиха.
Меня это и смешило, и раздражало. Я все-таки не знала, что такое Спиноза; а спрашивать у этой педантки я, конечно, не желала.
Все разбрелись. Я таки взяла и осталась со Спинозой. Хотела напотешиться над ней хорошенько.
— Где же вы прочли статью? — спросила я тоном смиренной девочки.
— Если хотите, я вам пришлю.
И опять улыбается как купчиха. Она совсем, кажется, и не поняла, что ее подняли на смех.
— В журнале каком-нибудь?
— Да, в Revue des deux Mondes. Я могу вам дать и Куно Фишера.
Это меня окончательно взбесило.
Спиноза, Куно Фишер, — что это за звери такие?
— Я ведь в ученость не пускаюсь, — сказала я ей, как Николай мой выражался, "в упор".
— А вы разве меня считаете ученой?
— Вы говорите о таких предметах…
— Ах, Боже мой, кто ж этого не знает.
Я пересилила себя и выговорила:
— Да вот я не знаю, первая.
— Вы, может быть, забыли?
Этот вопрос отзывался, кажется, насмешкой. Взглянула я на нее: улыбка телячья, но не язвительная.
— Я не могла забыть, потому что я никогда и не слыхала про вещь, которую зовут Спинозой.
— Вещь! Ха, ха, ха!
Впрочем, она сейчас же удержалась, положила мне руку на колени и немного отеческим тоном проговорила:
— Есть много интересных предметов… на них не обращают внимания в свете. Я вам пришлю эту статью: она очень мило написана.
Из деликатности Плавикова не сочла нужным обучать меня тому, что такое Спиноза. Деликатность деликатностью, а мне все-таки было досадно, что я осталась ни при чем, не умея даже сообразить: что бы это такое было "Спиноза"?
— Мы с вами встречаемся, — заговорила сладким тоном Плавикова, — а совсем почти незнакомы друг с другом.
— Помилуйте, я буду очень рада, — сболтнула я, не знаю зачем.
Эту фразу она выговорила, краснея и пожимаясь. К ней жантильность идет, как к корове седло. Тут я почувствовала, что над этой женщиной следует смеяться. Я сидела перед ней, как невежда; но я была все-таки искреннее.
— Вы много читаете, — сказала я ей и тотчас же подумала: если ты, матушка моя, возишься все с учеными и сочинителями, так зачем же ты обиваешь пороги у всех, только бы тебе попасть в большой свет?
— У меня есть свой особый кружок, — запела она и завертела головой. — Я не могу расстаться с воспоминаниями своей молодости. Когда покойник Тимофей Николаевич бывал у нас в Москве, он всегда говаривал: "И в шуме света не забывайте вечных начал правды, добра и красоты".
Какой Тимофей Николаевич? Это было хуже Спинозы. Спиноза, по крайней мере, Бог его знает, что-то такое иностранное. Я имела наконец право faire de ce Spinoza,[7] но этот Тимофей Николаевич, вероятно, какая-нибудь знаменитость наша, русская. Плавикова мне не прибавила даже фамилии. Вся кровь бросилась мне в голову.
"Ну, подумала я, коли на то пошло, я, милая моя, не выдам тебе того, что не имею ни малейшего понятия о твоем Тимофее Николаевиче".
— Так вы его знали? — спросила я.
— Еще бы! — вскрикнула она, и зрачки у нее совсем закатились. — Помилуйте, он был как свой в нашем семействе и Кудрявцев тоже; Кудрявцев учил меня истории. Какое время! Я его никогда не забуду. Бывало, сойдется Тимофей Николаевич у нас с Алексеем Степанычем…
У меня сделались судороги в пальцах. Я возненавидела этого Алексея Степаныча. А ведь тоже какая-нибудь знаменитость? У них, верно, там в Москве знаменитостей дюжинами считают.
— Какой ум! — разливалась Плавикова. — Переспорить его нельзя было; но сердце льнуло всегда к тому, что говорил Тимофей Николаевич. Я не могу без слез об этом вспоминать.
Экая противная! Как мне хотелось в эту минуту оборвать ее. Но как? Надо было хоть что-нибудь знать о всех этих Тимофеях Николаевичах, Алексеях Степановичах, Иванах Ивановичах, не знаю уж как их там по батюшке!
— Заверните ко мне, — вдруг повернула Плавикова на приятельский тон. — Вы такая милая. У меня по четвергам всегда кто-нибудь, de la république des lettres.[8] Мой муж не любит этого. Он находит, что я синий чулок. И вы тоже находите. Я знаю. Но мы сойдемся. Я вижу.
Так и сыплет, точно царица на театре: "я знаю, я вижу".
— Enchantée,[9] - пробормотала я, видя, что Плавикова встает.
Мне не хотелось выпускать ее. Еще две, три секунды, и я бы совладала с собой; я начала бы ее вышучивать.
Плавикова подняла на меня еще раз "томительные взоры", пожала руку и поплыла в большую гостиную.
Я осталась. Села даже на ее место у столика, где стояла вазочка с конфектами. Мне было совестно. Да, совестно. Я ела конфекты, как девчонка, которую высекли. Если бы можно было, я сейчас бы уехала, никому не показываясь.
"Да, — повторяла я, — положим, что эта Плавикова дрянь, что у нее больше тщеславия, чем во всех нас, больше, чем в Софи, и над ней следует смеяться. Но мне от этого все-таки не легче. Какая бы она там ни была, смешная или нет, искренняя или фальшивая, она все-таки читает о Спинозе, а я даже не имею понятия о том: зверь это какой, человек или наука? Да еще Спиноза не беда. Но у нее есть воспоминания. Не может же она бесстыдно лгать. Этот Тимофей Николаевич, этот Алексей Степаныч: она их слушала девочкой. Ее учил истории какой-то г. Кудрявцев, вероятно тоже знаменитость. Как бы она ни была пуста, она жила чем-нибудь, кроме тряпок и острот Паши Узлова, Поля Поганцева и преображенца Кучкина. Положим даже, что она рисуется, положим даже, что она ведет себя глупо в гостиной, тычет всем в глаза своих Спиноз и Алексеев Степанычей; но если ей это нравится?! Ведь вот я играла же самую жалкую роль перед нею, хоть и хотела поднять ее на смех".
Я солгала, написавши, что встретила в Плавиковой потешный курьез. В сущности ничего тут нет смешного. Я и Плавикова на Невском, в театре и в гостиной — веселимся одинаково. Может, и надо мной смеются, как над нею. А она кроме этого имеет у себя интимный кружок каких-то уродов, "la république des lettres", как она изволит выражаться. Собирает, вероятно, голодных сочинителей, кормит их; они ей пишут стихи, она перед ними жантильничает… и довольна, и счастлива! Шутка сказать! У нее есть занятия, по крайней мере. Она, я думаю, перед своим четвергом учит наизусть статьи, выкапывает разных Спиноз, чтобы не ударить себя лицом в грязь перед своей république des lettres.
Вот передо мной две женщины: Плавикова и Софи. У одной есть сочинители, у другой офицер Кучкин. А у меня?..
Ехать мне в четверг к Плавиковой? Глупости! Что я там буду делать? Сидеть дурой и хлопать глазами, когда будут вспоминать разных Алексеев Степанычей. Благодарю покорно.
Разумеется, я там не знаю этих сочинителей; они, вероятно, большие замарашки, но все-таки они должны быть занимательнее наших garèons d'ambassades и недорослей из дворян.
Если б я и решилась поехать, то разве на несколько минут поглядеть, как хозяйка драпируется в своем Hôtel Rambouillet… Я читывала про этот Hôtel. Были же ученые женщины. Задавали всем тон. И никто над ними не смеялся. Вероятно, там говорилось не раз и о Спинозе. Так ведь то во Франции.
Кто же это Спиноза? Поеду завтра к Исакову и скажу Сократу, чтоб он мне сейчас же отыскал номер Revue des deux Mondes, где этот Спиноза; а если журнал отдан, достал бы мне со дна морского такую книжку, где бы все было рассказано о Спинозе.
18 ноября 186*
Два часа ночи. Четверг
Я, право, не бегала за этой Плавиковой; но она сама опять пристала ко мне.
Отнекиваться было глупо. Обижать мне ее, в сущности, не из чего. Она ведь надо мной не смеется. Я думаю даже, что она и не сумела бы смеяться. Она слишком проста.
Да, я вернулась с вечера, где собралась la république des lettres.
Начать с того, когда я решилась ехать, вопрос: как одеться? — остановил меня. Если там все будут одни мужчины, надо надеть темное платье, даже черное. Недурно показать полное презрение к замарашкам-сочинителям. Да и потом, явитесь вы в хорошеньком туалете и вдруг ни один из этих уродов не догадается даже надеть белый галстук? А если там будут и женщины? Я очень волновалась.
Плавикова со своим Спинозой болтала у меня битый час Бог знает о чем, опять прослезилась, вспоминая своего Тимофея Николаевича, и хоть бы слово о туалете. Просто дура.
Я, однако, добилась-таки, кто такой Спиноза. Во-первых, Плавикова прислала мне Revue des deux Mondes; a во-вторых, у Исакова мне выкопали книжку: целый роман из жизни Спинозы.
Теперь я знаю, что это его фамилия; а звали его очень смешно… Барух! Бог знает какое имя! Оказывается, ни больше ни меньше, что он был великий философ, давно что-то, тогда еще, когда и немцы не выдумали философии. Милее всего: он был жид. Я уж никак не полагала, что у жидов есть своя философия. Из статьи Revue des deux Mondes я, признаюсь, очень мало поняла. Скука смертельная. Кто это пишет статьи в Revue des deux Mondes? Слова французские, а каждую фразу надо перечитать раз пять, пока доберешься до какого-нибудь смысла.