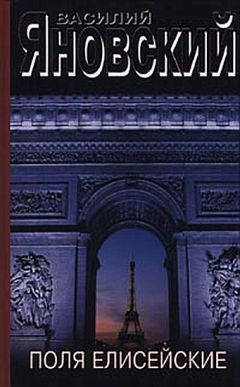Его многие не любили при жизни, или так казалось. Постоянно спорили, клевали, навалива-ясь скопом, завистливо придираясь, как полагается на Руси. А он, точно сильная ломовая лошадь, которую запрягли в легкий шарабан, налегал могучим плечом и вывозил нас из трясины неудачно-го собрания, доклада, даже нищей вечеринки. Дело могло кончиться скандалом, но все-таки у многих в сознании на следующее утро, как в саду после грозы, обнаруживались вдруг свежие, творческие побеги.
Поплавский, выступая на собрании, говорил монотонно, напевая под нос и как бы задыхаясь к концу длинной фразы. Когда он начинал задыхаться, то ускорял речь и повышал голос, чтобы успеть пояснить мысль и затем лишь перевести дух. Но это повышение и ускорение как-то всегда совпадали с наиболее острой его мыслью, а может, она представлялась таковою благодаря удачно затрудненному дыханию.
Стихи свои он читал тоже с монотонным напевом и под нос, как бы через свирель, вдруг ускоряя темп; впрочем, в начале строфы голос его мог звучать, как у школьника. Я умел хорошо подражать его чтению; но с годами эта способность пропала. В те времена "Черную Мадонну" или "Мечтали флаги"... повторяли на все лады не только в Париже, но и на "монпарнасах" Праги, Варшавы и Риги.
Поплавский был чуть ли не первым моим знакомством на Монпарнасе. И с того же дня мы перешли на "ты", что не было принято в русском Париже; в ближайшие десять лет он, вероятно, остался моим единственным "ты". И это, конечно, не случайность для Бориса.
Мне пришлось быть свидетелем, как в продолжение целой ночи в удушливом подвале на Пляс Сен-Мишель, куда мы прошли после собрания в Ла Боллэ, Борис говорил Фельзену "ты", а тот вежливо, но твердо отвечал на "вы". Много лет спустя Фельзен, оправдываясь, объяснял, что он не любит, когда его заставляют! (Как, должно быть, ему было мучительно в подлых немецких лапах.)
Эта ночь подобно кошмару тянулась без конца; Поплавский был точно на пороге эпилептиче-ского припадка, словно вся его жизнь, вечная, зависела от того, откликнется ли его собеседник на братское "ты".
В конце двадцатых годов Фельзен был еще новичком на Монпарнасе, известно было только, что его уважают Адамович, Ходасевич и многие богатые меценаты. Это, конечно, могло вначале повлиять на Поплавского, но дальше тяжба его была уже не карьерного порядка.
А беседа, между прочим, велась совсем неподходящая для Фельзена того периода. О святой Софии, о разбойнике на кресте, о римском патриции, осужденном на смерть и боящемся казни; его любовница вонзает себе в грудь кинжал и улыбаясь говорит: "Видишь, это совсем не страшно..." (Любимая история Поплавского.) Все эти его речи были пересыпаны интимнейшим "ты" в ожида-нии немедленного чуда, отклика, резонанса.
Поплавский приходил ко мне, часто в неурочный час, на рю Буттебри и слушал мои первые рассказы. Он находил в них "напор". После выхода романа "Мир" Борис повторил несколько раз, что я похож на человека, которому тесно: он постоянно всем наступает на ноги!
В его "Аполлоне Безобразове" воскресший Лазарь говорит "мерд"! В "Мире" у меня есть нечто похожее, и Поплавский жаловался на мою "плагиату". Когда я по рукописи доказал, что о прямом заимствовании не могло быть и речи, он грустно согласился:
- Да, все мы варимся в одном соку и становимся похожими.
Ссоры с ним регулярно сменялись полосами дружеского общения. Мы расхаживали по беско-нечным парижским ярмаркам и базарам, по ботаническим и зоопаркам, приценивались к старин-ным мушкетам или к подзорным трубам эпохи армады. Иногда отдыхали в синема или подкрепля-лись неизменным кофе с круассаном. Я тогда верил в медицину, и в февральскую стужу - чтобы предупредить бронхит, пил, обжигаясь, горячее сладкое молоко. Он издевался, придумывая разные забавные, а иногда и злые ситуации, потом распространял их как действительно имевшие место.
Придешь в следующую субботу к нашему общему другу Проценко - такой малороссийский Сократ, "учитель жизни", - не отличавшемуся, казалось, никакими формальными талантами, а оказавшему большое влияние на многих... Только зайдешь, еще стакана вина не предложили, а уже Проценко с деланной строгостью спросит:
- Что это, Василий Семеныч, неужели у вас в рассказе герои пьют конскую мочу?
До меня уже дошли слухи о новой проделке Поплавского, и я горько отбивался:
- Там сказано: "от запаха конской мочи першит в горле"... вот и все!
Любимым анекдотом Бориса был разговор, будто бы подслушанный им в Монте-Карло:
- Вы тоже мистик? - спрашивает один.
- Нет, я просто несчастный человек.
Или другая выдумка: монаху за молитвою все время является соблазнительный образ жен-щины.
- О чем просит этот анахорет? - осведомляется наконец Бог Саваоф.
- О женщине, - докладывают Ему.
- Ну, дайте ему жжееннщиину!
О каждом из своих друзей Поплавский знал что-то сокровенное или злое; впрочем, препод-носил он это почти всегда снисходительно и мимоходом.
На мой вопрос, действительно ли фамилия одного нашего литератора чисто итальянская, Поплавский, сладко и болезненно жмурясь, объяснял:
- Он кавказский армянин. Знаешь, как Тер-Абрамианец, Тер-Апианец.
И улыбка падшего ангела озаряла землистое, одухотворенное лицо с темными колесами глаз.
В 1941 году я прочитал объявление в "Кандиде" о вернисаже выставки знаменитого худож-ника Тер-Эшковича в Лионе... и вспомнил вдруг Поплавского. Кстати, Борис учился рисованию и хорошо разбирался в живописи, что, разумеется, не случайность в его жизни.
Чудилось - у Поплавского огромный запас витальных сил: вот-вот легко и походя опрокинет ставшего у него на пути... Но вдруг что-то срывалось: совсем неожиданно и ощутимо! Лопалась центральная пружина, и Поплавский застывал на всем бегу, точно зачарованный медиум, улыба-ясь сонной улыбкой. И сдавался: соглашался, уступал, уходил!
Его мистическая жизнь была полна пугающих противоречий, и часто вокруг него собирались исключительные по насыщенности темные силы. Мне всегда чудилось: не устоит, не осилит! Ясно, что тут речь шла о другом плане, ибо в таланте или даже в гении ему никто не отказывал. Внутренне он чересчур спешил, тщась развить духовные мускулы так же непропорционально, как и свои бицепсы.
Отношения с Поплавским не могли быть ровными. С ним, единственным, кажется, из всех парижских литераторов я дрался на кулаках в темном переулке у ателье Проценко, где веселились полупоэты и полушоферы с дамами. В этот вечер уже с самого начала Борис был уязвлен, приход Адамовича раздразнил его еще больше. Он вообще был чрезмерно чувствителен к отзывам печати, совсем не стараясь этого скрывать. Даже статейка заведомо глупого или ничтожного собрата все-таки действовала на него завораживающе. Эта черта, свойственная всей русской литературе, она в эмиграции развилась до уродства именно по причине совершенной тщетности и бесплодности на-шей деятельности. Ну, похвалит тот, другой... Никаких обычных последствий ведь нельзя ожидать - то есть увеличения тиража, гонорара, почета!.. Сплошное какое-то почесывание пяток друг другу. Главное, рецензии эти воспринимались как последнее мерило, ибо не было еще одной инстанции - читателя!..
Что отношение может быть другим, я понял только позднее, попав в страны англосаксонской культуры. Там независимые джентльмены почитают за долг относиться равнодушно к тому, что другие джентльмены пишут о них по обязанности. За все время существования американской литературы вы не найдете статьи в духе того, что писал, скажем, Салтыков-Щедрин о своем современнике Достоевском.
Одно из самых потрясающих признаний, сделанных Буниным (их было не много), относилось именно к этой теме. Раз в "Доминике" поздно ночью, пропустив последнее метро, он мне сказал:
- Даже теперь еще... а сколько было... как только увижу свое имя в печати, и вот тут, - он поскреб пядью у себя в области сердца, - вот тут чувство, похожее на оргазм!
Что же обвинять Поплавского! Никто ему не подавал другого примера. К западу от Рейна постепенно укоренилось мнение, что если христианские отношения пока еще не установились в нашем обществе, то надо, по крайней мере, хотя бы вести себя прилично. Русское понимание comme il faut* относилось главным образом к чистой обуви и перчаткам, а отнюдь не к fair play**. А между тем, с этим свойством общество не рождается, fair play можно только прививать.
* Как надо (франц.).
** Честная игра (франц.).
Что греха таить, на родной Руси люди по сей день испытывают особое удовольствие, если им удастся неожиданно совершить подлость или повести себя неприлично. Устами воображаемого героя Достоевского: "Вот мы с вами только что обсудили все высшие материи и настроились на европейский лад, а я вот возьму, ха-ха-ха, и сделаю гадость, хе-хе-хе". Сталин, по свидетельству авторитетных лиц, почитал за высшее наслаждение обедать с человеком, которого уже приговорил к расстрелу или пыткам. Перехамил или перекланялся так определял Поплавский собственный недуг.