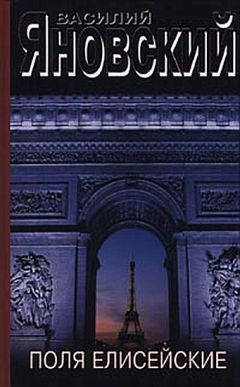Вернее было бы - перехамил и перекланялся одновременно.
Георгий Иванов, человек, интимно связанный со всякого рода бытовой мерзостью, но по-своему умница, с удовольствием повторял слова Гумилева:
"Войти в литературу - это как протиснуться в переполненный трамвай... А заняв место, вы в свою очередь норовите спихнуть вновь прицепившегося".
Увы, эти "трамвайные" нравы не были свойственны только литературе. И в русской политике - правой или левой - требовалась та же "гимнастика", натуральная борьба, византийские джунгли, хе-хе-хе.
Эти рудименты пещерной культуры характерны для всего Востока, но особенно они удруча-ют в России, где звание писателя ставится необычайно высоко, чуть ли не на одном уровне с пророком, святым, борцом за правду. На Западе совсем иное отношение к литературе. Хемингуэй пишет хорошие рассказы, но ему не придет в голову указывать современникам, за какого президе-нта голосовать. Пруст поместил свой капитал в публичный дом и жил с прибыли, что дало ему возможность написать гениальный роман.
Какое это было откровение, когда я двадцатилетним юношей впервые услышал, что писатель может играть на бирже и волочиться за мальчиками... И совсем не нужно обязательно проповедо-вать, страдать, клеймить, идти на каторгу или делать вид, что страдаешь, жертвуешь. Причем, парадокс - именно эти вежливые писатели, отдающие деньги в рост, никогда не бросают "подле-ца" своим собратьям и не ловят их на грамматических ошибках.
Среди парижских писателей было несколько заведомых джентльменов: Осоргин, Фельзен. И какое это было чудо отдохновения с ними общаться: парадиз, остров ровного доброжелательства среди соборного царства перехамства.
- Вот, - говорил мне Поплавский, хвастливо протягивая письмецо. - Если делать дело, то надо его делать как следует.
Письмо было от Алданова к Зеелеру (секретарь Союза писателей и журналистов, по внешнос-ти Собакевич из "Мертвых душ"). Марк Александрович рекомендовал Поплавского как талантли-вого поэта и поддерживал его просьбу относительно единовременного пособия в размере ста франков. Алданов любил такого рода благодеяния и никому, даже негодяям, в них не отказывал. Мне он раз даже дал список своих переводчиков на иностранные языки. "Все мертвые души"! -узнав об этом, хихикнул Иванов.
Думаю, что следует пояснить наше тогдашнее отношение к чужим деньгам и вообще к услу-гам посторонних... В те годы получить субсидию или подачку почиталось лестным! Помню скан-дал, устроенный Смоленским, когда ему ничего не уделили из собранной суммы. На возражение Фельзена (председателя), что Смоленский теперь работает и не очень нуждается, последний трагически завопил: "Поэт я или нет? Неужели я хуже Кельберина? А раз не хуже, то и мне полагается!"
Вспоможествования, милостыня становились в нашем обиженном сознании чем-то вроде чи-нов и орденов чеховской Руси. Случаев гордого отказа от таких денег почти не бывало. Впрочем, все знали, что Осоргин и Алданов никогда ни от каких "обществ" или частных жертвователей суб-сидий не получали и не желали получать. Но это вызывало только циничные замечания Иванова, стригшего без зазрения совести и трусливых овец, и блудливых волков.
Только потом, в США, увидав, как по пятницам выстраиваются скромные, веселые люди разных мастей у окошечка в конторе и с достоинством получают свой чек за недельный труд - от 40 до 90 долларов, причем за 10 долларов можно купить обувь или простое женское платье, а за 50 мужской костюм... только тогда мне что-то открылось! Наивные американцы должны еще рассчитаться окончательно с налоговым инспектором, и все же при всяком удобном и неудобном случае они любят повторять, что никому ничем не обязаны и ни о чем не просят... Это некий мест-ный идеал (как ратовать за народ в России), одинаково обязательный для поломоек и для поэтов, преподающих Creative Writing* в колледжах, для черных лифт-боев и седых дантистов.
* Писательство (англ.).
Нам в детстве твердили про героев, затыкавших пальцем пулемет, бросавших бомбы в гене-рал-губернаторов, или о святых, раздававших мужичкам свое заложенное имение. Но о том, чтобы трудиться целую неделю, а в пятницу, получив чек, заплатить по счету, гордо заявив: "Я, слава Богу, никому ничего не должен и ни в чьей помощи не нуждаюсь...", о таком варианте граждан-ской добродетели мы не слышали. А жаль.
Зато в США люди выглядят примитивами, когда заводишь разговор о мистике падения, о национальной идее, о соборности искусства и об уходе Толстого из Ясной Поляны. Тоже, конечно, жаль.
Итак, Поплавский на вечеринке в ателье Проценко, где днем красили галстуки и шарфы, был особенно раздражен. Статья Адамовича, задевшая его, стакан вина из нового запаса, привезенного таксистом Беком (бывшим русским подводником), или "постоянная" девица, не отстававшая ни на шаг от Бориса, все это могло подействовать на него удручающе. Кстати, девица эта изъяснялась по-русски с невозможнейшим акцентом; о ней мне Поплавский повторял, зло и страдальчески жмурясь:
- Она питается моими экскрементами.
Началось с того, что я разговорился с Адамовичем; тот считал, что похвалил Поплавского. Вообще критику в эмиграции жилось подчас очень несладко: все вместе, все на виду, каждый день жмешь руку... Если выругаешь А, то Б надо еще больше покрыть; а похвалишь С, то Д следует опять-таки выделить особо. Все взвешивается мгновенно на чутких, точных, хотя и нематериаль-ных весах, и сразу предъявляется претензия. Кроме того, существуют редакции, старики, зубры, снобы, радикалы. Как тут сохранить равновесие и популярность! Причем все равно писатели никогда не удовлетворены.
Однажды Адамович выделил строку Поплавского "Город спал, не зная снов, как Лета..." , указав, что последние слова звучат точно "котлета". Остроумно. Но Борис в истерике заявил, что он опозорен навеки. "Ты не понимаешь, я поэт, и все воспринимаю иначе".
Мое уединение с критиком ему не понравилось. У Поплавского была такая черта ревности. Около полуночи он со своею девицей вылез наружу в глухой переулок, что у метро Censier Daube-nton. Да, в сексуальном смысле у нас не все обстояло благополучно. Грустный факт заключался в том, что за пределами литературных дам, которые не были созданы для вульгарных отношений, на нас никто не обращал внимания. И немудрено: плохо одеты, без денег, и главное, без навыка к легкой жизни и приятным связям. А между тем Париж был полон взволнованных иностранок, приезжавших туда, чтобы разделаться со своей опостылевшей добродетелью. И нам именно этого хотелось! Но, увы, они, казалось нам, предназначались для другого сорта мужчин - удачников (что часто означало почему-то - пошляки, бездарности).
Еще одна черта восточного Гамлета: культ недотеп, мстительное презрение к удаче! Больше-вики, судя по дипийцам, с этим, кажется, покончили.
Но иногда мы натыкались на тревожный парадокс: удачные удачники. И талантливы, и умны, и мистически подкованы, а жар-птица им все-таки дается в руки. Тогда мы не знали, как себя вес-ти, выдумывая разные оговорки, кидаясь от одной крайности в другую: перехамив и перекланяв-шись! На этом, в сущности, было основана безобразная травля в Париже "берлинца" Сирина.
Итак, Борис вышел с девицею в переулок и уселся в пустое такси Бека, дожидавшееся своего хозяина. Потом Бек мне жаловался, что они заблевали подушки в машине: "А ведь мне еще рабо-тать пришлось".
Там, на заднем сиденье, Поплавский полулежал с дамою сердца, когда я тоже выполз провет-риться. Из озорства я несколько раз протрубил в рожок, мне тогда это показалось остроумным и даже милым.
Но Поплавский вдруг неуклюже, точно медведь, вывалился из такси и полез на меня, мате-рясь и возмущенно крича:
- Ах, какой хам... ах, какой хам...
В его страдальческом голосе были нотки подлинного отчания.
Мы несколько минут сосредоточенно и бесцельно боролись, он зачем-то рвал на мне ворот рубахи и даже вцепился в волосы. Наш общий друг Проценко в это время как раз освежался у забора. От совершенной неожиданности, любя нас обоих, он опешил, буквально парализованный, не зная, что предпринять... Так он мне потом объяснил свое состояние. Вино, разумеется, тоже сыграло некоторую роль.
На нашу возню из ателье высыпали другие литераторы, шоферы, дамы. Всеволод Поплав-ский, брат Бориса, весело картавя, вопил:
- Обожаю русскую речь...
Бек нас разнял; он потом уверял, что только из уважения к выдающемуся поэту не избил последнего за испорченные подушки. И это очень польстило Борису.
- Неужели мы когда-нибудь войдем в людное собрание как настоящие, общепризнанные знаменитости? - спрашивал он меня вполне серьезно.
Внутренне он спешил, чересчур спешил.
В те десятилетия мы много ходили. Пройти ночью с Монпарнаса к Шатле, где Поплавский тогда жил, было не только экономией, но и удовольствием. По дороге он покупал в кафе-табак полые французские свечи. Они стоили гроши, и этой мелочью я его иногда ссужал. Кстати, пустые парижские свечи вызывали ожесточенную ругань среди наших правых "почвенников". "Смотри-те, - кричали они. - Разве такая нация сможет воевать с немцами?"